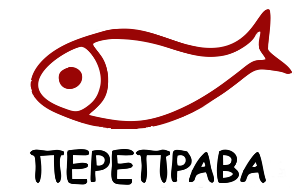Зима – самая тихая пора, но тихая для тела, физических работ, а не для души. Зимой Валаам превращается в сказочный остров. Когда темнеет, то во всех скитах зажигаются лампадки и горят с треском свечи, и этот свет проникает через окошки на улицу, ложится под окнами на ровный снег, искрится, блестит и освещает собой округу. Это такие Валаамские фонари. А Валаамские торосы (ледяные горы) ? Снег их покрывает разводами и издалека кажется, что это какие-то взбитые сливки, пирожное безе – мысли мирские, но как живописно! Снег на Валааме покрывает не только землю; деревья все в тонком инее, небо благородно-серо, а Ладога черна, но с каким-то налетом, как будто снежинки не растворяются на ее волнах, а ложатся на поверхность и сплетают свой собственный узор, постепенно превращаясь в прочный лед.
Из-под метрового снега, там, где начинается спуск с пригорка, проглядывает сухая трава, тоже одетая в иней, и кажется, что заботливая зима пеленала ее, чтобы она не умерла в холод. А холод на Северном Афоне настоящий, как и вообще все кругом настоящее. Когда выдыхаешь пар, кажется, что это не твое тепло уходит из тела, а холод бесплотным духом вселяется в тебя, морозит, а потом улетает, растворяется. Когда же светит солнце, то все вокруг кажется ярче – небо чистое, и на нем золотятся купола скитов. Разве не чудо ? звездное небо днем! Монастырские постройки белые и сливаются со снегом, черные деревья как будто отражаются в их черных окошках, а шатровые крыши скитов как монахи, которые несут в своих руках зажженную свечку – крест на главке - и возвышаются над землей; устремлены туда, ввысь. Главные цвета зимой – белый и черный, а еще бледно-розовый на закате или рассвете, постепенно сливающийся с белым горизонтом и запорошенными снегом полями. Как бесконечно и как искусно! Небесный художник, я перед тобой преклоняюсь. А когда вечереет или надвигаются тучи – небо становится свинцовым с редкими белыми просветами, а на этом фоне золотые купола. Картинка ? фотография начала века ? да, как у Прокудина-Горского.
Зимой в лесу даже немного страшно, на ветвях елей лежит тяжелый снег, под которым они устало склоняют ветви к земле, где их ждут сугробы, чтобы совершенно забрать в плен. Ветви же других деревьев и вовсе полностью запорошены мягким снежным пухом и выглядят как причудливые белые кораллы. Присутствует ощущение того, что находишься где-то на дне моря, особенно когда дует порывистый ветер и ты, задыхаясь, жадно хватаешь ртом воздух…
Идешь по лесу, а вокруг какой-то мертвый сон, и от этого не по себе. Вдруг осыпается с ветки снег, какой-то треск, быстрое движение на верху – белка. И сразу весело, вокруг жизнь. Валаам никогда не засыпает. Или смотришь на Ладогу, и вот среди белого снега, у островов какое-то движение – черная нерпа.
А что же монахи ? Зимой они особенно погружены в себя, для них жизнь вокруг засыпает, а внутри разгорается, как разгораются ярче свечи в скитах или пустыньках. Иногда встретишь бредущего на встречу инока: голова опущена, опирается на палочку (чтобы, если понадобится, определить, как глубок снег). Спрячешься за деревом, а он пройдет мимо, не заметив; да и не пройдет, а как будто проплывет по твердому насту. Христос так ходил по воде.
А как хорошо взять в зимний день лошадку, запрячь ее, выехать на простор и мчаться! А где-то вдалеке мелькают деревья, светит вечернее солнце, а ты мчишься и кричишь: «Господи, как хорошо! Господи!» - и все вокруг тоже кричит, тоже радуется и благодарит. А когда лошадка устанет, спустишься с саней, и пойдешь рядом с ней к Ладоге, не торопясь, чтобы она смогла успокоиться и не застудиться, когда будет пить воду. Вода в Ладоге чистая, снимаю варежки и зачерпываю замерзшими руками, пью небольшими глотками. Монахи используют ее и в хозяйстве и в приготовлении трапезы. Вспоминаю, что крещеная вода никогда не портится. Кажется, что на Валааме вся вода крещеная. Да и не только вода. Монах молчит ходит, строит скиты, пишет святой лик, выполняет работу в монастырских огородах – и все с молитвой… Не священные реликвии помогают, а вера. Валаам весь ею пропитан, как будто взяли его и окунули в благоухающее миро и растекается оно по рекам всей России, через все озера и этим еще живем и дышим.
Улыбаюсь лошадке и возвращаемся с ней обратно к монастырю.
Приход весны на Валааме никогда не пропустишь. Все просыпается, просыпается Ладога. Она томно, но уверенно сбрасывает с себя ледяное одеяло, которое послушно обнажает северную красавицу. Стоишь на берегу, вокруг еще зимние цвета, белый и черный, небо еще бледно, еще покрывает искусный тонкий воздух теплое солнце. Но дышится уже как-то по-весеннему, ожидаешь скорого цветения и новых красок вокруг, ожидаешь Пасху. Ладоге самой не терпится вернуться к своему вольному и дикому настроению, а потому и лед она разламывает с треском, неаккуратно, весело, как ребенок. И огромными остроконечными глыбами плывет он, постепенно растворяясь, чтобы стать причиной скорого половодья. Затопит Ладога рыбацкие деревянные лодочки, заботливо привязанные монахами о склонившиеся почти над самой водой деревья. Затопит и прибрежные камни, они почти совсем скроются под водой, чтобы потом, когда вода начнет сходить, снова появляться, как будто возрождаясь. Природа сама показывает нам эту весеннюю метаморфозу умирания-рождения, как будто все в преддверии Светлого праздника хочет повторить подвиг Христа. А когда Ладога вернется обратно в свои берега и уже будет, радуясь, ударять о прибрежные скалы и разлетаться брызгами, устремляясь к небу, тогда так хорошо спуститься к берегу, лечь на прибрежные гладкие и нагретые солнцем луды и смотреть вокруг, вдаль, на небо… И вот на фоне этой темной воды, серых и бурых камней, - этого заготовленного макета, - Великий художник уже начинает наносить изумрудные краски первых листочков, начинает прокрашивать пожелтевшие травинки свежестью и жизнью, золотит кроны сосен и пышных берез. А в свечных мастерских золотится воск, чтобы потом маленьким весенним солнцем гореть и освещать людей, их мысли и надежды.
В лесу на ткущемся ковре, из которого нитками пробивается старая трава, начинают постепенно появляться яркие синие и желтые цветочки. В серых гранитных расщелинах зеленеют-белеют подснежники. На фоне Ладоги, на утесах и в монастырских садах на фоне весеннего неба распускается яркими рубинами и аметистами сирень, благоухают пышные розы. Сорвешь несколько веточек сирени, принесешь в комнату и поставишь на окно – каждое утро с первым ветерком будут они напоминать о радостном времени года. А как цветут яблони ? Небольшие деревца просто усеяны белыми цветочками с желтыми усиками-сердцевинками. Прогуливаешься по саду и представляешь, какой щедрый урожай будет летом. Воздух сладок, небо чисто, купола искрятся. На Валааме не одно солнце, а сотни маленьких солнышек, которые весной приветствуют одно единственное, а потом отражают его круглый год. Идешь по острову, вечереет, небо становится топлено-молочным, и вдруг слышишь перезвон – благовестят. Услышишь далекое и ровное пение нескольких иноков и начнешь тихо повторять. А потом выйдешь к небольшой заводи и увидишь такую картину: приподняв над водой морду с ветвистыми рогами, с мягкими растопыренными ушками переплывает по заводи на другой берег лось. Он не торопится, черный блестящий глаз замечает тебя и спокойно смотрит. Недиковинный Валаамский житель выходит из воды, отряхивается и начинает щипать новую зеленую травку, к которой и добирался, уже совершенно забыв про тебя.
Весной все готовятся к Светлому Воскресенью. Валаам украшается, расцветает, монахи усердно работают; поправляют покосившиеся за зиму постройки на ферме, белят стены монастыря, продолжают реставрационные работы, пишут к празднику светлые лики… Весна пришла и, казалось бы, сердце должно ликовать, радоваться, но на лицах иноков и отцов тяжелая дума. В Страстную неделю работы чередуются с частыми службами в скитах и самом монастыре; в эти дни монахи и вовсе безмолвны во время трудов. Помогаешь печь куличи; в пекарне запах – праздничный, сдобный и сладкий. Монах аккуратно складывает горячие небольшие куличики на деревянной старой доске-столешнице. Дерево пропитывается медовой сладостью, а потому в пекарне всегда стоит этот особый пасхальный аромат. В кадках по другой стороне замешано тесто. Послушник старательно заполняет формы и добавляет изюм – просушенный Валаамский виноград. В углу полка с иконами, они висят и еще на нескольких беленых стенах. Слышно только, как стучит нож о деревянную столешницу, когда вынимают из форм только что испеченный кулич, как замешивают тесто и пальцы глухо ударяются о присыпанный мукой столик. Вокруг жар от печей, преддверие праздника и мудрое, терпеливое молчание.
Освятить пасхальное угощение приходят со всей Карелии. Тут же берут себе на праздничный стол и куличи; только их освящать уже и не надо - каждый пропитан молитвой монаха или послушника.
Пасхальная служба – чтение апостольских Деяний, утреня, стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе», крестный ход и пасхальный тропарь как будто самого тебя уносят с земли, вселяют бесконечную и твердую веру в чудо, побеждают все злое и в тебе самом и вокруг. Под древними, белеными сводами монастыря, в свете и тепле потрескивающих красных свечей, освещающих золотые оклады икон и просветленные лица прихожан – совершается волшебное действо. На Валааме даже Пасха особенна, ведь когда выйдешь из ворот храма, перед тобой откроется не мирская суета, а торжествующая Воскресение Христово природа. Радостные восклицания «Христос Воскресе», христосования с послушниками, монахами, батюшками и игуменом, перезвон колоколов и колокольчиков, веселые лица за трапезой, оживленные разговоры – как будто все было безмолвно и вот теперь – искренняя радость, улыбки и голоса. Весна пришла на Валаам.
***
Мы приезжаем на Валаам зимой. Небольшой теплоход осторожно пробирается через льды Монастырской бухты. Мы стоим на палубе и смотрим на заснеженный остров, этот неземной, затерянный в России мир, который все ближе и ближе… Николай осторожно придерживает меня, чтобы Ладога не нарушила своим волнением мой покой и созерцание. Кроме нас на палубе стоит одинокий монах, а в стороне еще какая-то пара. Девушка все как-то искоса поглядывает, я посмотрела в ее сторону и улыбнулась, она покраснела и начала пристально и бессмысленно вглядываться в приближающийся берег. Я невольно размыкаю объятия Николая, потому что осторожно оглядываюсь назад, где сидит совершенно удивительная женщина. Ее лицо очень красиво, волосы убраны сзади в прическу, платок съехал и почти полностью открывает ее голову. Лоб высокий и открытый, отчетливо выделяются скулы, но не потому, что она измождена, а потому что лицо ее благородно и тонко. Губы плотно сжаты, а серо-голубые глаза устремлены в одну точку и неподвижны. Нестеровское лицо. Ветер развевает ее черный кружевной платок, длинная черная шуба в пол и смиренно сложенные руки делают весь ее облик драматичным, траурным. Почему она так привлекла мое внимание ? Что за горе случилось в ее жизни ? О борт теплоходика ударяется пласт льда и я, оторвавшись от моей красавицы, поворачиваю голову и хватаюсь за руку Николая. По его лицу пробегает какая-то заботливая полуулыбка, он слегка наклоняется, отворачивает мой платок, целует волосы и снова поправляет его.
Это не первое наше с ним паломничество на Валаамский архипелаг. Впервые мы посетили его вместе почти сразу после нашего обручения, три года назад. Сейчас мы едем сюда через полгода после нашего венчания.
Теплоход медленно подходит к пристани, Никоновской бухте. Монах-помощник набрасывает веревку на кнехт. Сходим на долгожданный Валаамский берег, на котором стоят несколько знакомых иноков. Радуемся очередной встрече, один из них поспешно отходит к паре, чтобы проводить их в гостиницу. Впереди быстро приближаются две фигуры: гостиничный, иеромонах Михаил, и игумен монастыря Парфений. Отец Михаил ничуть не изменился, все те же черные добрые глаза и черная густая борода; игумен же слегка постарел, но на его лице все та же неизменная улыбка и очки, которые ничуть не скрывают его радостного взгляда.
- Отец Михаил, батюшка! – восклицаем мы и спешим к ним навстречу, целуем руки.
- Заждались, заждались, - отвечает батюшка игумен. – Что же это вы так долго добираетесь до нас ? Работа, суета мирская ? – он улыбается, смотрит на меня, а я, смутившись, опускаю глаза. Отец Парфений все понимает и переводит взгляд на Николая.
- Служба, батюшка, - улыбаясь, отвечает он.
- В службе мирской не должно забывать про службу Богу. Здесь служишь, чтобы в чины возводили, а там чинов нет никаких, все равны.
Николай, продолжая улыбаться, опускает голову. Я знаю, что здесь он смиряется, и я как-то грешно горжусь, что он строг там, где следует быть строгим и смиряется там, где следует смиряться. Такое качество очень редко в людях и я учусь этому у него.
Отец Михаил провожает нас в гостиницу, а игумен, улыбнувшись и благословив нас на пребывание, отходит к ожидающим его монахам. Мы идем и разговариваем о зимних Валаамских морозах, об отреставрированных святынях, о том, как прошло Рождество… И тут я вспоминаю про женщину с теплохода и оборачиваюсь назад. Никого, только одинокий монах на берегу крепче привязывает канат.
Алёна Васелькова
Продолжение следует
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.