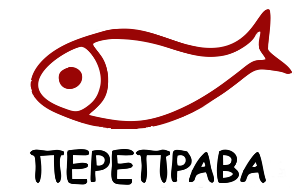В игуменской гостинице очень уютно: беленые сводчатые потолки, деревянные двери номеров-келий, а по стенам картины Валаамских монахов-живописцев и иконы в углах. Поднимаемся по крутой каменной лестнице на второй этаж.
- Надолго к нам, молодые ? – спрашивает отец Михаил, а черные глаза так и искрятся от радости, то ли от того, что он рад видеть нас снова вместе, то ли от того, что не забываем дорогой нашему сердцу Валаам, а может и просто оттого, что в душе его светло и спокойно.
- Супруга хотела со старцем Феодором поговорить, - отвечает ему Николай, а потом добавляет, - ну а я как благоверный спутник.
Мы переглядываемся с ним и тихо смеемся. Отец Михаил вдруг останавливается в коридоре, разворачивается к нам, молча берет наши руки и кладет мою на руку Николая. Потом перекрещивает нас, а мы горячо целуем его грубые, натруженные пальцы.
В нашей комнате две деревянные кровати по стенам, разделенные небольшим столиком, простые белые покрашенные стены и такой же сводчатый потолок, как и во всем здании гостиницы. В правом углу теплится красная лампадка, а над ней висит икона Спаса Вседержителя. При входе стоит простой дубовый шкаф, а напротив него дверь в ванную. Вот и все убранство. Отец Михаил проходит к окну, отодвигает тонкие занавески и кивает нам. Мы подходим и видим пушистые снежные сугробы по деревянной раме окна, высокие заснеженные ели и бесконечную белую Ладогу, сливающуюся с небом.
- Какая красота! – невольно восклицаю я, а отец Михаил задумчиво смотрит вдаль. А потом, как бы опомнившись:
- Ну, располагайтесь, молодые. Обед у нас уже был, но вы зайдите в трапезную, Андрей приготовит вам что-нибудь…
- Да мы если только чаю выпьем с дороги, - перебиваю его я, чтобы он не беспокоился.
- Ну хорошо, - улыбается отец Михаил, - чаю выпьете. Потом зайдите к отцу Парфению, очень уж он вас ждал, да и порасспросить хочет, вы же дети его. И на вечерню приходите, душа-то сразу очистится, тревоги и заботы уйдут, после дороги-то.
Мы благодарим его и обещаем обязательно быть на службе. Отец Михаил еще раз крестит нас и уходит.
Николай ставит наш багаж на кровать, а я опять возвращаюсь к окну.
- Какая же красота, Николенька, правда ? Посмотри! А весной там под окнами на первом этаже, видишь ? там растет сирень… А сейчас так чисто и светло.
Он обнимает меня за плечи и тоже смотрит в окно.
- Нам надо сюда обязательно приехать весной, когда все расцветет, - тихо говорю я, как бы про себя.
- Нет, сейчас здесь определенно лучше, чем когда-либо. Все вокруг напоминает тебя.
Удивленно поднимаю голову и смотрю на него.
- Ладога как невеста, да и все вокруг такое красивое и святое.
Я смеюсь. И он вдруг засмеялся, искренне, громко. А через несколько секунд Николай разворачивает меня к себе, опускается на колени и очень серьезно произносит:
- Ты счастлива ?
Целую его лоб и глазами указываю в левую сторону:
- Только Он представляет насколько.
В комнатке сразу стало еще уютнее. На тумбочке расставлены наши иконы, лежит Евангелие, «Лествица» и несколько книг Иоанна Кронштадского. В тумбочке какие-то бумаги Николая и я знаю, что когда мы перед сном откроем наугад Евангелие, прочитаем открывшиеся страницы, и я потом крепко усну, Николай еще будет сидеть при свете лампады и двух свечек, портить зрение и разбираться со своими бумагами.
Поправляю у зеркала платок; благоверный накинул старую шинель, какую-то выцветшую и серую, наверно еще образца Первой мировой. Я всегда смеюсь над ней, несмотря на то, что именно она не раз спасала меня от холода во время наших путешествий и я, завернувшись в нее, спокойно засыпала.
Отец игумен еще не вернулся к себе, и мы идем в паломническую трапезную. Андрей, совсем молодой монах, помощник келаря, весело нас приветствует и торопится что-то приготовить, но мы ему замечаем, что будем ужинать со всеми вместе, и просим только горячего чаю. Через некоторое время Андрей приносит нам простые белые чашки и чайничек с заваривающимся напитком. Открываю крышку и с удовольствием вдыхаю аромат Валаамского чая, а вернее травяного сбора из всяких целебных растений из аптекарского сада, с сушеными малинами и земляникой. Сами монахи такой чай не пьют, а собирают его специально для паломников, чтобы их силы восстанавливались после трудов. Андрей бежит, чуть поднимая от пола свою рясу одной рукой, а другой несет какое-то блюдо.
- Вот, а то как же совсем так ничего не есть, с дороги-то, - и, запыхавшись, ставит на стол тарелку с хлебом. – Это я с пекарни принес, только что сделали. Я сказал Василью, что вы приехали, так он просил передать со всем его благословением и любовью. Уж не откажите.
Мы благодарим милого Андрея и предлагаем ему разделить трапезу с нами. Но он отказывается, сославшись на то, что ему надо идти помогать в трапезную к монахам. Мы отпускаем его с Богом, а сами понимаем, что Андрей просто не хочет нам мешать, зная, как мы редко видимся и как все не наговоримся друг с другом. Я прошу благодарить Василья и передать ему, что я обязательно зайду его навестить. Василий – тоже монах, работает в монастырской пекарне, я несколько раз помогала ему, а после трудов мы как-то разговорились и стали настоящими друзьями.
Андрей оставляет нас одних, а я разливаю заварившийся чай по чашкам. Николай берет кусок почти горячего хлеба и с удовольствием ест.
- Какой же хлеб! Ребята мои никогда такого и не пробовали, - и запивает чаем.
- Ты ребят своих так загоняешь, что им любой хлеб вкусным покажется, - улыбаюсь я.
Он усмехается, мол, «скажешь тоже».
А Валаамский хлеб и правда особенный: пышный, вкусный; даже когда зачерствеет и превратится в сухари, монахи размочат его в воде или в чае и с удовольствием едят. С самого утра в пекарне стоит жар – растапливают огромные печи. Дрожжевое тесто замешано и теперь его нужно аккуратно разлить в прямоугольные черные формы. Все похоже на то, как пекут куличи на Пасху, только в пекарне стоит не сладкий, а пресный, мучной дух. Вот формы прихватами помещают в печь и оставляют на время. Когда же хлеб уже готов, то один монах этими же прихватами достает формы с готовым хлебом из печи, а другой, в больших кухонных варежках, чтобы не обжечься, берет форму и достает горячие, румяные кирпичики. Хлеб лежит и остывает на столешницах, с каждым часом его прибавляется все больше и больше, в пекарне становится душно от хлебного воздуха. Но даже открытое окно зимой не спасает монахов. Через какое-то время некоторые из них снимут скуфью, чтобы не так жарко было. Лица строгие, углубленные в себя, ни звука не проронят, а только слаженно работают – у них задача особенная, они ответственны за «хлеб насущный». И только иногда, так же строго и резко проведут рукой по мокрому лбу, чтобы откинуть волос и оставят мучной след на лице или бороде. Слышно, как зафыркают за окном лошади – другой монах приехал, чтобы отвезти хлеб в трапезную для братии и паломников. Хлеб сложат в телегу на холщовую ткань и сверху такой же укроют. Возвращается монах на лошади и чувствует, как тепло среди зимних сугробов и ветра – хлеб греет.
Вечером, когда работы заканчиваются, снимают монахи свои мучные фартуки, отряхивают небрежно рясы и торопятся в кельи, чтобы поблагодарить Бога за добрую работу, прочесть молитвы на сон грядущий и приготовить чистое платье к заутрене. Удар колокола в девять оповещает о часе безмолвия.
Вспоминаю, как проходила послушание в пекарне и как руки после работ еще долго пахли тестом; вспоминаю усердного Василья и мысленно молюсь о том, чтобы и в этот раз отец игумен назначил мне послушание именно там.
Закончив нашу скромную трапезу, мы с Николаем направляемся в Спасо-Преображенский монастырь.
Помолившись, рассматриваем иконы и росписи на стенах собора. Сколько же разных соборов и их убранства я видела… И всегда меня удивляло и даже раздражало изображение «европейского» Христа: блаженный мягкий лик, какое-то удивление и неестественная мягкость взгляда. Можно даже и в России увидеть подобное, например на иконах Симона Ушакова. Смотришь и удивляешься, чем был велик такой Иисус. Вселенской добротой и любовью ? Я видела такую доброту и любовь в глазах сектантов и фанатиков: эта не сходящая полуулыбка, замутненный взгляд, слова «любовь», «братство», «добро», «свет» на языке и – пустота. А какой из себя «русский» Христос ? Тонкий, строгий, изможденный трудами лик, который видит все и всех, знает наше будущее, и знал его еще тогда, когда мы все находились в полусне и не слышали, не внимали его спасительному взгляду. Перед этой отеческой строгостью падаешь ниц и просишь прощения и милости себе, им и тем, кто вокруг. Христос справедлив, а потому и меч в его руке не выглядит пугающим – он не борется против своих детей, он идет против той темноты, что окутала нас и не снизойдет еще долго. Почему не снизойдет, если он всемогущ и велик ? Нельзя воевать одному. Суворов один никогда бы не взял Измаила, Платов и Кутузов одни никогда бы не изгнали Наполеона. А мы же и не стремимся вставать под Его знамена. Нам кажется, что все уже выиграно, мы многое вернули, а воевать и вовсе не стоит, ведь надо же «подставить другую щеку», не так ли ? Кто там у нас проповедовал это в начале XX века ? Христос ли ? нет.
В его лике терпеливое и смиренное ожидание, любовь и великая вера в каждого. И даже если через много лет, проведя тысячу исследований, мне скажут - Христос выглядел так, как его изображают в католических соборах, я останусь веровать в Нерукотворного Спаса, в иконы Рублева, произведения Нестерова, Глазунова, Васнецова и работы Валаамских монахов и послушников.
Инок тихо подходит к нам и сообщает, что отец игумен уже ждет нас у себя. Николай как-то беспокойно всматривается в меня, как будто бы читает мысли. Улыбаюсь ему и, крепко взяв за руку, направляюсь к выходу из храма. Его большая ладонь полностью обхватывает мою. Вот и хорошо. Не одна.
Мы идем к отцу Парфению прежде всего, для того, чтобы он благословил нас на послушания. Я уже рассказала про то, как проходят труды на пекарне, но монахи даже и зимой, когда количество работ невольно уменьшается, находят себе занятия: ухаживают на ферме за коровами, курами, на конюшне за лошадьми, а в рыболовных хозяйствах иногда вылавливают форель для скудной зимней трапезы братии. Самый же тяжелый труд, как физический, так и духовный – на кузницах. Там жара и в зимние морозы, да и попробуй сосредоточиться на смиренной молитве, когда вокруг стук и лязг. А лица все такие же строгие, царствует молчание… Монахи-кузнецы не считают свой труд тяжелее, чем у других. Они выполняют свою работу так же, как и весь Валаам работает и никогда не прекращает своей деятельности – не суетной, а терпеливой и упорной.
Мы приезжаем на Валаам как паломники, а это какая-то средняя ступень, между туристами и монахами; у нас выбор – вернуться в мир или остаться уже навсегда. Некоторых туристов пугает тяжелая аскетичная жизнь, паломники привыкают к ней, монахи живут ею.
Отец Парфений встречает нас улыбкой, а мы целуем его руки и все вместе садимся на старенький диванчик с уже протершейся обшивкой.
- Дайте мне на вас наглядеться, дети, - все так же с улыбкой говорит игумен и все рассматривает нас через толстые стекла очков, как будто старается разглядеть перемены на наших лицах. Я немного краснею под таким внимательным взглядом, но понимаю, что отец Парфений как будто впитывает в себя дорогие его сердцу черты, ведь когда мы вновь уедем, он только и будет жить этими воспоминаниями, как вообще живет хранящимися в его памяти и сердце чертами паломников и монахов, всех его детей.
- Ну, знаем-знаем, что перед Богом вы теперь законные супруги, - игумен перекрестил нас и прочитал короткую молитву. – Живите в любви и согласии. Так, как Николай тебя любит – больше так никто не полюбит, а так, как она всегда ждет тебя, так никто тебя ждать не будет, - тихо произнес отец Парфений, обращаясь к Николаю. – Через многое пройдете, дети, как и все мы через многое проходим, но пока вдвоем – ничто вас не введет в заблуждение. А вы теперь уже на веки вечные вдвоем, и перед Богом уже не отделимы друг от друга.
Игумен говорил, а сам проникновенно в нас вглядывался, как будто старался заметить, не промелькнет ли на лицах наших сомнение в сделанном шаге, после которого уже нельзя отступать. Но мы сидели с Николаем абсолютно счастливые, иногда переводя глаза с отца Парфения друг на друга.
Он замолчал и смотрел на нас с такой же счастливой улыбкой.
- А что же к нам-то в такую пору, милые ? Вам бы сейчас самое место в миру, где жизнь.
- Я хотела со старцем Феодором поговорить, потому и приехали.
- А Феодор как будто вас ждал. Алексей тут набрел на его пустынь, а тот сидит на ступенях в одной рясе, обхватил колени руками, все смотрит перед собой, не пошевелится – ждет кого-то. Ну а теперь вот оно что выясняется. Ясно, кого ждал. Так это вы что же, на один день всего ? – голос отца Парфения дрогнул.
- Нет, батюшка, мы к вам на послушания, - поспешил успокоить игумена Николай. – Вот и пришли за вашим благословением.
Отец Парфений тут же как будто засветился весь изнутри. Мне захотелось искренне смеяться от этой доброй и детской натуры, которую я отвыкла наблюдать там и всегда словно заново привыкала к ней здесь. Игумен благословляет меня на работу в монастырской пекарне и лицо мое, светящееся такой же детской радостью от исполнившегося заветного желания теперь как будто отражает радость отца Парфения. Николаю же придется исполнять другой труд – помогать монахам-строителям в реставрирующихся скитах и в самом монастыре. Мы уходим с благословением, и батюшка Парфений еще раз нас крестит и твердит молитву. Когда же мы выходим от него, на душе становится как-то невыразимо приятно от того, что вот есть на земле человек, который в каждой своей усердной молитве будет поминать тебя, даже если ты будешь далеко отсюда. В минуты отчаяния, уныния вдруг приходит успокоение – это кто-то молится за тебя, даже если ты сам не можешь или не хочешь преклонять своих колен и прочесть молитву. Меня научили этому, и теперь я поминаю в них и друзей и врагов, но чаще – прошу прощения. Потому что мне всегда есть за что просить прощения.
Погуляв по зимнему Валааму, начинающему погружаться в темную дымку ночи, в пять часов идем на вечерню в храм.
Службы на Валааме кажутся всегда торжественными – в одно и то же время все будто бы останавливается и устремляется в храм или ближайший скит. Чтение канонов, ровное пение монахов, повторяющая молитву братия и паломники… Все крестится, все кажется немо несмотря на хор, и душа очищается. Как ? у всех по-разному. Бывает, я плачу во время вечерни. Вот как-то так слезы сами польются из глаз и их ничем не остановить. Я рассказала как-то об этом Василью, а он заметил, что именно так душа и очищается. Просто становится хорошо и плачешь от того, что хорошо. А после службы, когда выходишь из храма, то смотришь на небо, солнце и золотые кресты и начинаешь по-другому многое понимать. Почему обязательно солнце, ведь и в пасмурную погоду, и в дождь, и в снег проходят службы ?... Просто каждый раз, когда я выходила из храма – обязательно светило солнце. Это то же самое, что и с молитвой о других – люди идут по городу, день ненастный и серый и вдруг проглянет солнце или потеплеет. Отчего ? Оттого, что где-то в ближайшей церковке прошла служба и людская радость осветила все вокруг.
После вечерни нас ждет ужин в паломнической трапезной. От монастырской ее отличает то, что не все паломники соблюдают молчание и скромную молитву во время обеда или ужина. Люди устают на работах, многие несут послушание по разные стороны острова и, встретившись, наконец, за одним столом, не могут сдержать себя и о чем-то не рассказать. Конечно, все разговоры довольно тихие и размеренные, но отличие от трапезной братии, где самое громкое это звон ударяющейся о края тарелки ложки, - разительно. Да и послушники после работ едят с большим аппетитом; для монахов прием пищи не так уж и важен. Организм, конечно же, требует яств для своего поддержания, но мне кажется, что если монахи и вовсе перестанут употреблять пищу – жизнь их на этом не оборвется. Живут же пустынники и схимники, некоторые сухоядением, а некоторые - питаясь только кореньями, найденными в лесу. Велика эта сила духа, это умение окончательно отрешиться от мира - не только от человеческих слабостей, но и от земного вообще. Все проходят здесь послушания добровольно, работая не для монахов, не для монастыря, а в первую очередь для себя самих. Тяжелые труды и долгие молитвы помогают услышать свой внутренний голос, а уже через него приблизиться к Богу. У некоторых получается отрешиться окончательно, и такие сидят за общей трапезой молча, почти не притрагиваясь к еде. Скорее всего, скоро они примут постриг, и если игумен благословит их остаться здесь, то на следующий год, кто знает, может среди монахов-помощников на теплоходе, или в трапезной, или на реставрационных работах ты увидишь знакомое лицо, вспомнишь, что совсем недавно сидел с этим человеком за одним столом, подивишься и порадуешься его высокой душе и, скорее всего, пересмотришь что-то в собственной жизни.
На столе в трапезной старые деревянные мисочки с соленьями, которые бережно сохраняются монахами уже не первый век; сделаны они из Валаамских берез и своим благословенным лесным запахом как будто освещают сделанные же монахами еще осенью заготовки. Некоторые хрустят огурцами или квашеной капустой с большим удовольствием, нежели остальные – они сами помогали тогда монахам. Масляные грибочки блестят в тусклом свете помещения, а рядом в бутылках стоит и золотится постное масло, которое некоторые добавляет в пустую гречневую кашу и, не сговариваясь, нахваливают. По праздникам гречку обжарят на масле, с луком. Или же отварят картошку, тоже щедро польют ее маслицем и посыплют укропом – аромат стоит на всю трапезную. Монахи иной раз и в праздники едят пресную пищу и редко когда позволяют себе после ужина «баловство» - ягоды. Пожуют их разве чуть, посмеются да и возьмут моченое яблоко. Говорят, вкуснее и Богу угоднее.
Мы с Николаем едим впустую, запивая чаем. Я сижу около него на самом краю длинного стола – все еще так и не могу привыкнуть к большому количеству народа. Монахи за обедом или ужином потупят свои глаза; они смотрят даже не в тарелку или в стол, а вообще теряют внешнее зрение. Когда же поднимешь взгляд у нас, то непременно наткнешься на чей-то прямо перед собой или сбоку – не смеющийся, удивленный или подозрительный, а просто человеческий, который иной раз сильно отвлекает. Впрочем, зимой паломники на Валааме редки. Спрятавшись за Николаем, я пытаюсь найти в полутемной трапезной ту женщину, с пристани, но ни в ком не узнаю ее. Какой-то старичок напротив осторожно тянется к моей ладони своей сухой, морщинистой и очень тонкой рукой – улыбается и протягивает тарелку с хлебом.
- Что вы, кушайте сами, - я беру пару кусочков и кладу в его же тарелку. Он не перестает улыбаться и все так же держит эту тарелку, а старческая рука уже начинает дрожать. Я смотрю на его редкую белую бороденку, которая тонким клинышком сползает под стол, белые редкие волосы, заботливо приглаженные, старую, уже кое-где перештопанную белую свободную рубашку, напоминающую русскую косоворотку и маленький деревянный крестик на простой веревке, который как-то небрежно зацепился за воротник – как будто он шел на трапезу как на званый вечер, а потому и оделся так празднично, как ему кажется. Его проницательнее серые глаза устремлены на меня, и я, проглотив отчего-то накатывающиеся слезы, кладу еще по кусочку Николаю и себе, благодарю его и, хотя не ем хлеба, откусываю и, продолжая глядеть на старичка, жую и пытаюсь улыбнуться.
- Смотри, сестренку-то корми хорошо. Лапушка махонькая, - тихо смеется он, обращаясь к Николаю. Супруг смотрит на меня и тоже ласково смеется и мы, не произнеся ни слова, решаем не переубеждать старичка. Он один сидит за столом с обнаженными локтями и совсем не дрожит. Решаю обязательно приехать сюда в следующем году и разыскать этого старичка в пустыньке. Он непременно будет именно там. После трапезы выходим из-за стола, я подхожу к старичку и целую его руку. Он от неожиданности снова улыбается и крестит меня, все повторяя «махонькая, ангельчик»; Николай кланяется и тоже целует ветхую руку. Мы уходим и уже не оглядываемся, но старичок все сидит так же, смеется и благословляет нас вслед.
Алёна Васелькова
Источник изображения: cruizi.spb.ru
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.