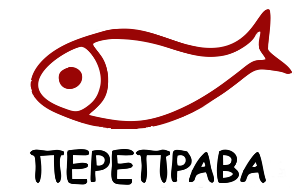Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887
Они лежат в русской земле, домовито припорошенные глиной и цементной крошкой. Над ними шелестят полевые травы, бормочет что-то неслышное стелящийся по земле изумрудный багульник, посаженный мамой, а чуть за низкой оградой стремится к солнцу неприметное, но уже хорошо принявшееся молодое деревце, то ли ольха, то ли ясень, да колокольчато грассируют из-за бетонного забора вещие лесные вОроны.
Сосны и берёзы, вечный верховой шум.
Я знаю это место уже 12 лет: крохотный участок, примерно два на два с красноватым гранитом и золотыми буквами. Три года назад камень покосился: мама встретилась с папой.
***
До Щербинки добираюсь от «Южной». О, не вытравляемый пейзаж окраин!
Километровые торговые центры, с утра почти пустые, стоически выдерживающие вялый наплыв случайно забредающих тёток и бабок, гипермаркеты с прилепившимися к ним извне, как ласточкины гнёзда, ларьками, перед входом в которые смуглый торговец или торговка уже побрызгали на пыль из бутылки с дырчатой крышкой. Это и есть наша вечность, вечность живых.
Автобус отчаливает: Варшавка, автосалоны, съезды на платные стоянки, коммерческая недвижимость для охотников за московскими прелестями, приезжие с тележками, местные с пивком. Чертаново Южное: сорокалетние новостройки на костях деревень, цехов, промышленных складов и военных частей.
Здесь давно махнули на быстрый карьерный рост: высовываться ни к чему. Приподнявшим голову из грязи криво ухмыляются, потому что первая мудрость этой жизни состоит в том, что приподниматься не стоит никакого труда. Живчики, понастроившие себе коттеджей за кольцевой автодорогой, отправившие детей учиться за рубеж, просто не понимают...Чего?
Неба, наверное.
Русское небо смотрит на русского человека, как на удобрение. И русский человек по целым годам плачет от этого взгляда. Плачет, потому что не может ответить русскому небу тем же бесконечным взглядом. Под ним нельзя ни строить, ни рожать безнаказанно и безболезненно, ни даже надеяться, что как-то образуется, выправится, вывезет на прямую дорогу. Она и без того так ровна, эта дорога, так ровна, что видна уже за последним её поворотом – Щербинка.
***
МКАД. Десять ревущих полос, по которым плывут, покачиваются, газуют хозяева если не судеб, то хотя бы общего ритма нашего бытия: шансон, ещё шансон. Авиасалон в Жуковском, концерт в Олимпийском, здесь могла быть ваша реклама, новый элитный посёлок, обогреватели, печи, калориферы, здесь могла быть ваша ре.
Здесь могла быть наша жизнь, но её здесь нет. Я ещё помню, как здесь, вдоль этих старательно, с размахом отреставрированных обочин Симферопольского, стояли избы, нормальные такие нищенски послевоенные домики в два-три фасадных окошка. Взгляды этих тёмных от шоссейной грязи окон: наивные, безысходно грустные. Года через три грянула реконструкция, заревели бульдозеры, и домики ощетинились самодельными дровяными плакатами – точно такими же, как в Грозном – «Здесь живут!»
Жили. Где теперь эти старики… Отселены, кто с компенсацией, кто наверняка без оной, тихо, культурно, на шестнадцатый ли, на двадцать ли четвёртый этаж новейшего жилого комплекса, где уже не то что не сделать ремонта, а и спускаться во двор тяжко и бессмысленно.
Болото за бензоколонкой осушено, вернее, наскоро засыпано роем наёмных самосвалов, но запашком характерным из кювета нет-нет, да потянет.
Совхозное поле, корявая дубовая рощица – калики перехожие протягивают ветви к проезжающим – выслушайте! песенку споём!…
А вот и наш съезд. Тянется глуховатый просёлок, мелькнёт внезапно смиренное поле с плакучими ивами, и вот уже скрылось. Заживо иссыхают на обочинах ростовые борщевики. Показываются один за другим старая типография (пять красных этажей, забор с колючей проволокой), милицейский посёлок (просто дачки в три этажа, садово-огородное товарищество причастных к городской страже), а там и конечная.
***
Площадь посреди леса. Налево – старое, заросшее, направо – новое. Море бумажных цветов при входе, за забором часовенка и колоколенка. Контора.
По-прежнему, набираешь в лёгкие воздуха, входя, будто прыгаешь с вышки или продираешься сквозь невидимую мембрану – границу между мирами.
Там же, на прежнем месте прилепившаяся к воротам закусочная под увесистым названием «Поминальная трапеза». Ассортимент, что называется, соответствует: из горячего сосиски, далее урочный набор компании Coca-Cola, сэндвичи, вафли, булочки с тем и этим. Поминать этим неловко, но не ресторан же делать, а название… нормальное название, не хуже, чем у людей.
Контора даёт напрокат лопаты, но у меня своя.
Я вообще свой здесь. У меня дома тёмно-зелёная книжка – свидетельство о праве на владение этим куском земли на участке номер 16.
Я свой: на кладбище лучше одеваться поплоше, и я одет в камуфляжные штаны, равные кроссовки, майку и, знаете ли, пролетарскую такую летнюю кепку. Взгляд полусонно насторожённый, кисловато взвешивающий, внутренне хваткий и цепкий.
Свой я, нечего и думать. Заговариваю с продавщицей пластиковых и бумажных букетиков, и не только потому, что куплю. Прекрасно зная, между прочим, что отец и мать ненавидели искусственные цветы, но покупать живые бессмысленно: от них через неделю остаются чёрные или обесцвечено желтоватые, вытянутые, как лапы прибитой фаланги, стебли, выкидывать которые мерзко.
Ничего. Авось не выкопают, как те анютины глазки на третий или четвёртый год папиного отсутствия. Мы пришли, а в земле скважины. Так сделалось горько – что ж вы, бомжи подмосковные, наделали? Это же наш папа, зачем же вы.
И только вороны каркали, только берёзы да сосны шумели из-за забора.
Утешить, наверно, хотели.
***
У своего всё своё: тяпка или сапёрная лопатка в пакете.
Центральная тропа засажена туями. Сорта разные: зелёные и желтые. Одни, значит, выгорают, другие держатся. Или так: мужчина, допустим, и женщина. Женщина, конечно вечнозелёная, а мужчина… мы и уходим первыми.
***
Ориентир мой всегдашний – гордая гречанка Каниди, классическая широколицая красавица в платке, но с огненными глазами. Диабаз её чёрен непропорционально. Я вообще не люблю этот камень: слишком мрачно, будто вечная ночь Палеха. Не люблю и меловую фактуру. Торжественно, конечно, с золотом, но легкомысленно.
Наш красный гранит с косой инверсионной полосой понизу мы покупали за 15 тысяч в конторе, держал которую один ещё довольно молодой «афганец». Он тогда рассказывал, что ехал мимо разбираемого моста через Москва-реку и увидел, что ложе его выстелено этим вот самым гранитом. Мост был сталинский, послевоенной постройки, а значит (многозначительно поднимал он палец в воздух), камни были – колымские. Их при Вожде только на Колыме и рубили. Так что берите, не пожалеете. Он у меня один такой интересный.
***
Я каждый раз боюсь его не увидеть. Этим летом всё так заросло… Особенно этими длинными, с метёлками, не знаю, как называются. Даже полоть жалко, столько в них стремления вверх. Так уместны они здесь, среди разносортных камней.
Нет, на месте. Слева Суров, справа Гетмановы. Здравствуйте и вы.
Кладбищенская культура наша убога, потому что убоги мы сами. Нет никакой унизительной уравниловки в русских некрополях: не Арлингтонское военное, где камень от камня отличают лишь инициалы. Не протестантские поля, усаженные одинаковыми крестами, о нет. Здесь каждый по вкусу, в зависимости от средств. Один год смотришь, совсем провалилась соседская могилка, заросла, спряталась, сделалась невидимой… но проходит год, другой, третий – и вдруг появляется ограда, скамья, цветник, сажается что-то, посыпается эта скорбь песочком из вёдер, а то и украшается оригинальным ландшафтным дизайном, и – красота!
Невольно радуешься за семью: молодцы, вырулили.
***
Дурные стихи, которые в порыве горя вырываются из душ по развитию младенческих или скачиваются из интернета и гравируются на камнях, здесь почему-то не бесят, а умиляют. Ну, не понимают люди. Или наоборот, понимают – в стихах – но совершенно не то, что ты. Им не рифма, не разворот темы, а задушевность важна. Она для них и есть главное. Чтобы трогало, звало, выражало, так сказать, эмоцию.
Не верится даже, отец наш любимый,
Что в этой могиле покоишься ты
Ну а что? Правда. И мне не верилось, хотя я видел, как отца туда клали.
***
Опять же про конфетки. После родительского дня почти непременно соседние могилы забрызганы леденцами, карамельками, шоколадными батончиками. Сначала возмущаешься, чего намусорили, а потом вникаешь: для них это ведь сосед лежит. Тоже человек был. И имя, и фамилия, и отчество, и годы знакомые. Значит, пахал, дышал, боролся. И тебе конфетку, и тебе: мы-то знаем, на земле-то не больно сладко. Вы, родимые, хоть там-то сладкого распробуйте.
И когда начинаешь слышать в себе эти рассуждения, прощаешь цветные фантики в глинистых брызгах. Пусть лежат. И пусть рюмочка вкопанная стоит, с клетчатой косой насечкой, совсем, как наша, домашняя, из серванта. Или это мы её принесли?
***
Офицерский участок. Наша гордость: пара хмурых контр-адмиралов и светлый блондин-подводник лет сорока.
Сухопутные майоры и подполковники – ВВ, ВВС и ПВО. Это уже Чечня. На почтительном от них расстоянии – русый красавец в тельнике и аккуратно, на документы заломленном берете. Фото служебное, протокольное, но какой бы он сейчас был славный муж, отец и брат, видно даже прикидочно. Потолстел бы, погрузнел, конечно. Как все мы.
***
Мама была почему-то отчаянно против папиного портрета на камне. Ни гравировкой, ни фарфоровым медальоном. Поясняла: не хочу, чтобы кто-нибудь прошёл и посмотрел сурово или цинически. Не хочу, чтобы вообще хоть кто-то недобрый взгляд бросил. Любила потому что. В радости и в горе, в болезни и здравии.
Они не венчались: никто из них не был верующим. Я и сейчас не выбиваю на папином камне креста, но и звезды не выбиваю тоже. Для меня они были просто людьми. Данниками века, пытавшегося выбить русскую цивилизацию из проторённого русла, отвергшего религию и снова, уже в моём колене, пытающегося вернуть невозвращаемое.
***
Маму крестили тайно ещё до войны. Наша Верочка, нянечка, монашка из разрушенного большевиками монастыря, повела маму и сестру её Галю, в какую-то церковь, кажется, во Владимире или в Сызрани. Дед был на работе. Если бы узнал, был бы в ярости. Всё-таки партийный.
***
Папа всегда посмеивался над земной церковью: для него она была сугубо человеческим образованием, впитавшим в себя бесчисленные заблуждения предыдущих эпох. Не смеялся он лишь над страданиями народа, избравшим себе христианство в качестве путеводной звезды.
Из мальчишества он запомнил, как уже неверующая семья его спускалась по праздникам в подвал дома и протирала там торчащий из земли каменный крест, кудрявый армянский «хачкар». В этой традиции он видел уважение к труду мастера и вере, сохранившей народ.
***
Корейский участок. Тут всё, как на ладони: молодые узкоглазые девчонки выбривают траву под ноль специальными косилками, потом долго разравнивают остатки её граблями. Могилы неогороженные, но сразу видно, что патриархам достаётся в три раза больше площади, чем рядовым. Всё вылизано, вычищено. Через дорогу русские буйные кущи. Хаос.
***
Ограду, конечно, надо красить. Снизу проржавела, надо счищать.
Выпалываю растительность, обнажая два продолговатых холмика. Брезгливо сбрасываю двух жирных слизней – ишь, устроились. Не люблю пауков, но их отчего-то нет. Покинутая паутина поблёскивает около пластиковой бутылки. Жара страшенная, но останавливаться незачем. Пусть хоть пот прольётся на эту землю. Больше обняться нечем.
Ну, вот я и пришёл, говорю я им, вот и приехал. Как вы тут? У нас всё хорошо, работаю, последний год было тяжеловато, но ничего. Здоровье у всех тьфу-тьфу, справляемся, даже ездили отдыхать, с деньгами более-менее, конечно, не хватает, но я стараюсь.
Очень без вас тоскую, добавляю вдруг с глубоким вздохом самое главное, заметив, что уже говорю вслух. Оглядываюсь, нет ли поблизости кого-то, но вроде нет, никто не слышит. Тогда я продолжаю и говорю до тех пор, пока работаю. И чувствую, что они будто бы сидят на ограде позади меня и слушают, и спрашивают, и горестно качают головой, и улыбаются мне, и гладят меня по лицу бесплотными пальцами.
Я не плачу. Только пару раз сглатываю что-то горькое, набежавшее на язык от непривычной горожанину сельской работы. Нельзя их огорчать. Пусть думают, что всё хорошо.
По сути, так и есть.
Плохо одно: они не нянчат внука.
Отец бы точно с ума сходил от Андрея, из рук не выпускал бы.
***
Ну, вот и всё.
Христианское отношение к смерти состоит в том, что с ней надо сжиться, потому что иного пути человеку природа не указала. Мы разумны, свободны, но это сегодня, на данном этапе означает, что вся эта разумная и свободная материя разрушима, и душа испускается из примерно в те же дали, что и бедняга Боумэн из «Космической одиссеи-2001».
Смерть есть самая великая одиссея, и одни её ждут, а другие исступлённо цепляются за любую возможность остаться дома.
Хороший ли дом эта Земля? Надёжный ли?
Для описания её придумана фигура «геоид», то есть, сплющенный шар в форме планеты Земля, и поэтому, когда мы говорим, что Земля имеет форму геоида, мы говорим о том, что Земля имеет форму Земли.
Я ничего не знаю о том, как должен христианин относиться к уходу близких, но мне почему-то кажется, что я отношусь к нему, как христианин.
Они всегда ужасались тому, что я курю, и поэтому я не выну сигарет из кармана и не щёлкну зажигалкой.
Прополов, прощаюсь с ними, долго, до самой дороги пробираюсь между оградами, заросшими в рост, и оглядываюсь, потому что покидаю их, потому что на какой-то срок мы расстаёмся. Хотя и это самообман: внутренне я всегда могу с ними поговорить. Пожаловаться им на что-то, рассказать. И даже иногда услышать ответ.
***
Снова на центральную тропу. Тётка и дядька с инвентарём, наломавшиеся, ворчливые, кивают на какой-то взметнувшийся у ворот высоченный купол с колоннами.
- О, как, – вовлекают меня.
- А кто там? – спрашиваю.
- Грузин какой-то. Или армян. Чурка, в общем. Композитор. Нога на ногу сидит, курит.
Ну что сказать? Эта манера хоронить известных деятелей напоказ мне и самому не нравится. На армянском кладбище, где я тоже бываю на Рождество, воры в законе и другие благодетели народные сидят именно под куполами, улыбаясь, как живые, и держат в «тонких нервных пальцах» сигареты в длиннющих декадентских мундштуках.
Идея таких композиций на поверхности: я, мол, даже после жизни весел и бодр. Я был на пиру жизни, черпал мёд-пиво полной ложкой, теперь ваш черёд, но и ему придёт когда-нибудь угомон. Смущает одно: мера и такт.
Победное водружение куполов и статуй в стране, где 99 процентов населения лежит под дешёвыми диабазами, песчаниками и мраморами, есть проявление самого махрового бескультурья, какими бы лаврами именно от лица отечественной культуры ни был увенчан деятель при жизни. Это следует понять и затвердить, или недобрые взгляды когда-нибудь выльются во что-то более увесистое. Ведь ничего в этой помпезности нет великого: только старание придать своей печали победоносность. А ничего победоносного в смерти нет. В подвиге есть, а в самой смерти – ни капельки. Смерть – проигрыш для каждого, и это самый мучительный дар изгнанникам из рая. Свершал ли добро, творил ли зло, ты проиграешь. Мы можем отыграть лишь имя, которое какое-то время будет что-то для кого-то значить.
Смерть в принципе не отрицает плохонького, сшитого сикось-накось и дырявого насквозь человеческого бессмертия. Она говорит – ну что ж, человече, потрудись. Тебе и завешано ведь трудится, так что давай. А я как-нибудь заверну к тебе на огонёк. Можешь сам позвать, но если застесняешься, ничего, не забуду. Заботой не обойду.
Зачем я езжу сюда? Ведь я прекрасно знаю, что их там нет. Там – только их оболочки, истлевшие, как куколки бабочек.
Но что-то большее, чем казённый долг, инерция и традиция, влечёт меня сюда раз за разом. Память и любовь заставляют меня брать сапёрную лопатку и наводить порядок на четырёх квадратных метрах так же, как в своей душе, жаждущей проникнуть за ту завесу тайны, окружающей наше бытие. При жизни это не удастся, и это я тоже хорошо знаю.
И, однако же, я надеюсь. Как сказано в Символе Веры, «чаю воскресения мертвых». Чаю, жду встречи, но ещё не готов к самому великому путешествию своей жизни и самому долгожданному объятию.
Я езжу сюда, и до тех пор, пока я езжу сюда, в Щербинку, я знаю, что моё время еще не пришло.
Сергей Арутюнов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.