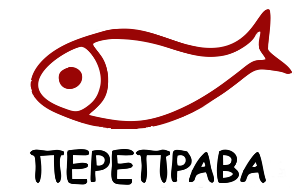Христос в Гефсиманском саду молился вот так, до первых звуков птиц, которые и ободрили Его…на высочайший подвиг
«Кровь на цветах» - поразительное название по определяющей красоте и подлинности этого мира, название, которое я долго не решался дать моим наблюдениям над жизнью. Читатель может показаться это название претенциозным, надуманным. Но однажды, в армии, после страшной трагедии на месте этой трагедии я увидел кровь на цветах. И было это неестественно и как-то страшно-подлинно: эти цветы – дар Бога людям, прекрасные цветы, как солнце яркие, и на них кровь. След людского зла – это значило, что люди так и не приняли дар Божий, жизнь, воюют с Богом и самими собой. И как не принявшие дар они будут вечно опаляемы злом, закостенеют в зле этом. А кровь Христа на цветах, на терновом венце, верно, так и осталась там, в Гефсиманском саду. Кровь от ран с тернового венца… На цветах…
* * *
Бог-создатель мог даровать человеку всю полноту совершенства изначально, но по своей немощи сам человек не смог это принять, как младенец не может питаться с колыбели с колыбели медом или амброзией вместо материнского молока.
* * *
Цыганская не привязанность ни к чему, безбожие, житие одним днем, воровством, - не высшая ли это «правда» жизни? Только чья?
* * *
Всю дорогу читал нравоучения своей пятнадцатилетней дочери. По молодости своей она почти счастлива и всячески выдает, даже оказывает это счастье, даже жаждет счастья целому миру. Все настроение ее выражается в ее действиях – ошибочных и поспешных, на мой взгляд сорокалетнего.
Она как бы говорит: ради моего счастья да будет счастлив весь мир! Если цветы – охапками, если гуляние – допоздна, если телевизор – то целыми днями… И вот мы, уставшие от жизни «предки», «шнурки» - родители, считаем себя вправе оговаривать это счастье, хватаем за руку, не даем радоваться. Глупо. Она как бы интуитивно чувствует, что и красота ее, и молодость, и здоровье, без которых невозможно счастье, - все это коротко, эфемерно, она чувствует это, не отдавая себе отчета себе в этом чувстве, и вот она спешит… А мы мешаем. Так и впрямь, когда же порадоваться, хотя бы и краткое время, как не теперь, в пятнадцать лет? И вот мы хватаем за руку: не делай так, не ходи туда, не делай того, этого, - как бы говоря и повторяя то и дело: вглядись, в этом нет ничего счастливого, и в том – тоже… Но так ли, точно ли ничего счастливого, и в том – тоже… Но так ли, точно ли это, что я прав сегодня более, чем она? И вот ехали, проезжали мимо места, на котором, в реликтовой роще, совсем недавно еще была такая чудесная поляна с озером, всякий мог прийти, посидеть у этого озера, закинуть удочку, слушать шум ветра в соснах. И вот какой-то хапуга, плут, уже «прихватизировал», обнес каменным забором эту лужайку, озеро, сосны – все высоченным забором из бетонных плит.
Наверху – сетка с изоляторами, пущено напряжение. Но кого из людей спросил он, этот хапуга, хотят люди этого или нет? Вот так же и мы: хватаем душу девчонки, огораживаем, «прихватизируем» ее по каким-то придуманным нами самими законам. И вот уже – ни прекрасных цветов, ни вершин сосен, отраженных в светлой глубине озера, а один только бетонный забор, пыль и морок. И так стало гадко: заел чужую жизнь. Обнял, извинился. Разгородил ясную поляну, прости меня, Господи…
* * *
Наткнулся на запись в дневнике, и тотчас пробудилось то чувство, с которым записал по весне: «Всю ночь лил мелкий дождь, и при дожде все свистали соловьи. Вышел на улицу, прошел через сад, за калитку и еще дальше. С ветвей яблонь во мраке и тишине беззвучно падали капли. Ширь и даль вокруг казались светлее, чем небо над головой. Смолк и, отдохнув, вдруг запел опять соловей, поддержала его откуда-то явившаяся пичужка, ей отозвалась еще одна, потом еще. Потом кукушка где-то вдали за лесом, гулко, с необычайно настойчивой чистотой и грустью. И вдруг и соловей, и пташка замолкли, как по команде, только продолжала свою жалобную песнь кукушка вдали. Я вернулся в дом совершенно потрясенный этими звуками, этим рассветом, так неожиданно, нечаянной радостью подаренными мне… Какая-то светлая тоска и благодарность упали на сердце от этого счастья Божьего утра, и вдруг со страхом понял я, что и Христос в Гефсиманском саду молился вот так, до первых звуков птиц, которые и ободрили Его…на высочайший подвиг».
Василий Киляков
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.