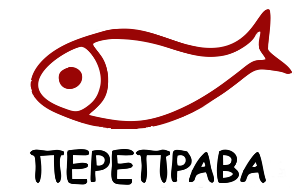Леонид Владимирович Сойфертис (1911-1996 ). Яблоня (из серии «Годы войны»). С сайта demokrat.in
Я вслушивался в повествования о спалённом Тохтамышем, а затем Едигеем Звенигороде, о том, как Иоанн Грозный подарил звенящий город царевичу Муртазе-Али, о разорении «царской богомольни» отрядами Тушинского вора, о колокольном звоне, доносившемся до Первопрестольной, и, когда запас терпения школьника был исчерпан, я вошёл в комнату к засидевшимся мужчинам. Двоюродный брат мамы дядя Толя одарил меня взором золотоордынца и спросил: «Что, Сашок, не спится?»
Мой смуглый и приземистый родственник с ходу разогрел мне шашлык на сковороде, налил горячий чай с лимоном и придвинул кусок торта «Птичье молоко» в коробке и три яблока, а светловолосый сосед дядя Миша усмехнулся и, поочерёдно указывая на каждое яблоко, поведал: «Жёлтое с кислинкой – это китайка, а красно-зелёное и кисло-сладкое – это жигулёвское, а вот пряное, румяное, золотистое – это осенняя радость».
У нашего благодушного соседа раскинулся громадный яблочный сад, где росло неимоверное количество яблок всех сортов, а на Яблочный Спас гостеприимный дядя Миша одаривал всех соседей и случайных гостей яблоками, раздавал он райские плоды вёдрами.
Фиалковое облако окутывало комнату, мужчины сидели за столом, а круглолицый и словоохотливый дядя Миша, бойко жестикулируя, уже не останавливался:
– Война застала нас под Ельней, мы гостили у родственников мамы. Я ведь только после армии в Подмосковье обосновался, до войны мы жили в Иркутске на берегу Ангары. Никогда не забуду, как мы отступали вместе с частями Красной армии. На километры растянулись бесконечные колонны солдат и беженцев. Пылища, жара, запах пота, кирзы, лошадиного помёта и дёгтя сопровождал обречённый людской поток. Пыльная горечь осела в горле. Гимнастёрки у мрачных солдат вымокли, каски болтались на ремнях и на вещевых мешках. Проезжавший мимо пожилой артиллерист усадил маму, сестрёнку и меня на телегу с амуницией и пытался нас раззадорить историями из жизни московского ломового извозчика. Веселили эти легенды только его, и он начал рассказывать о празднике первых плодов: август как раз подходил к концу. Я тогда впервые услышал о праздновании Преображения Спаса нашего Иисуса Христа. Усатый старик рассказывал, что под зрелой яблочной сенью к людям возвращается покой и здоровье и происходит духовное преображение человека, а когда протянул мне и сестрёнке спелые яблоки, подмигнул и произнёс: «Вот съешь первое яблочко, и что надумано – сбудется, и что сбудется – не минуется».
Над нами закружила «рама», так в войну называли разведывательный самолёт «Фокке-Вульф», а спустя минуты три пожаловали «Хейнкели». Всю нашу колонну разбомбили. Всё вокруг заволакивал едкий дым, исходящий из воронок, переполненных кровавой и грязной слизью, в которой навсегда исчезли моя мама и сестрёнка. Меня, оглушённого, с осколочным ранением, подобрала и выходила бабушка из соседней деревни. Так я очутился на оккупированной территории. Старушка укрывала меня от немцев, опасалась, что, как и всю молодёжь деревни, меня угонят на работы в Германию или отправят в концлагерь. Поодаль от моего укрытия был разваленный храм, куда фашисты согнали так много народа, что всю ночь перед отправкой в Неметчину люди простояли, а обессиленных и разговорчивых расстреляли тотчас на погосте. Морозную и голодную зиму я просидел в подполе, там меня, вшивого и сонного, искусали крысы. Так что как трясёт, сжимает виски, как ломит кости, я знаю не понаслышке. Тиф уничтожал меня, старушка, посчитав, что я умер, позвала деревенского священника. Отец Зосима пришёл меня отпевать, а я перед панихидой издал какой-то звериный вопль. Черноризец унёс меня к себе и вылечил, читая днём и ночью молитвы под сводом разрушенного храма Преображения Господня. Только к августу сорок второго, как раз на Яблочный Спас, я выздоровел; в сорок третьем Ельню и прилегающие деревни освободили; в сорок четвёртом по приказу от двадцать пятого октября меня призвали в армию. Последний призыв! Как я ждал этого призыва! Я же по отцу потомственный казак, даже родился неподалёку от приграничной Цурухайской крепости. В лютом ожидании я десятки раз перечитывал статью Ильи Эренбурга «Убей!». Я выучил её наизусть! Я ждал своего часа! Перед сном, вспоминая своих, я повторял как молитву: «Убей немца! — это просит старуха-мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
Вечером перед уходом на фронт я зашёл к своей спасительнице. Она всё плакала, жаловалась: уходя, немцы забрали у неё двух жеребцов, которых она спасла в сорок первом во время отступления Красной армии в поле под бомбёжкой. Немцы взамен оставили старушке хлипкую кобылицу, она выходила больную лошадь, а теперь драгоценную клячу реквизировали советские воины.
«Как жить? Как жить, родненький?» – вопрошала старая плакида.
Когда я покидал монашеское жилище, радетельный инок глянул на меня и едва слышно напутствовал: «Вспоминай о геенне и ненавидь дела, влекущие в неё».
На фронт я попал в начале сорок пятого, воевал и служил в Германии. Навсегда запомнил дождливую ночь на Первые осенины перед самой демобилизацией. В казарме мы засиделись надолго, выпивали, а потом вспомнили о празднике, на который положено освещать яблоки. Служил с нами сержант родом из Задонска, воевал с шестнадцати лет, он быстро собрался, пообещал мигом вернуться и рванул за территорию части, бросив напоследок: «На второй Спас и нищий яблочко съест».
Недалеко от наших казарм был родовитый яблочный сад, он необычайно расцвёл в то лето, вот за поспевшими яблоками сержант и махнул. Мы заговорились, а потом, глядя на часы, спохватились, что сержанта нет уже около часа, ринулись в сад…» – в этот момент могучий казачище выпустил табачное облако, посмотрел мне в глаза, глубоко вдохнул и продолжил: «В общем, там мы его и нашли. В середине сада он был повешен на самом большом дереве, а руки его верёвками были привязаны к рядом стоящим яблоням. Получилось верёвочное распятие. Под яблочным шатром сержанту распороли живот, а когда мы снимали его с дерева, из раны вываливались окровавленные яблоки. С нами служил шустрый паренёк из кубанских казаков, так вот он первым добежал до наших танков, потом подоспели и мы. В ту карамазую ночь в пригороде небольшого немецкого города не осталось ни одного дома, ни одного живого человека, мы до утра утюжили аккуратные домики и гостеприимных жителей. Обрушился мощный ливень, и весь посёлок под тяжестью танков постепенно утопал в слякоти. Управляя боевой машиной, я вспоминал, как скобами к воротам солдаты армии фон Клюге прибивали изнасилованных женщин в сорок первом, а я прятался в подполе и дрожал от страха и холода в окружении гнилых яблок и прыгучих крыс. Пластун не забыл, как после освобождения родной станицы рыдали казаки, обнаружившие поседевших жён, которые в безумии смотрели на утопленных в колодцах младенцев. Мы хотели только одного: мы хотели, чтобы Германия исчезла с лица земли! Чтобы никогда пережитого нами никто больше не смог прочувствовать. Да и всех этих Померанцев и вообще всех обвинителей в одну яму бы с немчурой прикапывал, нелюди они для меня, так, посконь жжёная».
Раздухарившийся сибиряк замолчал. Я сидел рядом и сжимал рукоятку охладевшей чугунной сковороды, смотрел на остывшее мясо, холодный чай, нетронутый торт и яблоки.
Дядя Толя стоял у окна вполоборота, покосившись, спросил: «Всех? Женщин? Стариков? Детей?»
«Всех, до единого», – ответил взмокший иркутянин.
«Судили или замяли?» – продолжал интересоваться мой родственник.
«А ты знаешь, дела никакого и не было, – продолжил моложавый дядя Миша. – Нашу часть мгновенно передислоцировали, а меня и всех наших ребят демобилизовали. Вообще до этого случая в яблочную ночь было установлено правило, которое строго выполнялось. В случае половой связи с немками солдат или офицер был обязан мгновенно поставить в курс об эпизоде начальство, и его отправляли на Родину. Если обращалась немецкая женщина, которая указывала на случай насилия, то перед ней выстраивали весь личный состав части, а она должна была опознать подозреваемого. В этом случае назначалось расследование. Этот приказ осуществлялся неукоснительно после нескольких происшествий. Ведь проблема имела оборотную сторону: на тот период в большинстве случаев никакого насилия не было. Расчётливые немецкие женщины умело мстили Красной армии за погибших мужей, братьев и сыновей. А трибунал в послевоенные годы был суров!»
Молчание длилось минуты три-четыре, как вдруг наш розоволицый сосед неспешно, почти шёпотом вымолвил: «Прощать как научиться? Без этой науки Спаситель может не принять, вот что устрашает».
Я ощутил тягучий взгляд родственника, казалось, в его взгляде отразилось всё: самоубийство деда во время ареста лубянскими опричниками, смерть отца, отсидевшего по пятьдесят восьмой на Соловках и выпущенного по актировке, хоккейное и краслаговское прошлое самого дяди Толи. Он как-то настороженно спросил: «А не засиделся ли ты, Сашок?»
Я молчал, он не отводил взгляда, я встал, а на пороге комнаты случайно задел большую плетёную корзину, из неё вывалились и раскатились по всей комнате яблоки, я смотрел на багровые, карие, янтарные плоды, и мне померещились людские головы, наши танки – и верёвочное распятие.
Дождь усиливался, ветки яблонь бились о стёкла, было слышно, как на землю падали наливные плоды, а из комнаты всё ещё доносились разговоры о «звенигородской баталии» и явлении преподобного Саввы принцу Богарне во время французской кампании, о «звенигородском мятеже» времён военного коммунизма, о «Второй трудовой коммуне ОГПУ»…
Александр Орлов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.