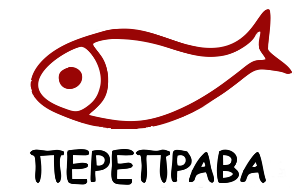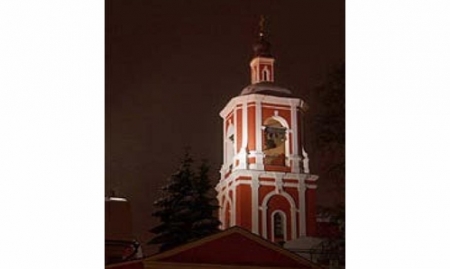Знаменский сторож. История одного воцерковления
Автор повествует о своём переходе в Святое православие. Покинув в конце 80-х годов прежнее место работы в престижных госструктурах, он устраивается церковным сторожем в один из московских храмов, а затем поступает в семинарию.
Игуменья с журфака
Однажды в гостях у одной верующей семьи я встретился с Натальей — послушницей Ново-Голутвинского монастыря.
Она пригласила меня посмотреть на обитель: «Наша настоятельница, мать Ксения, тоже, как и ты, окончила факультет журналистики МГУ. Она — умная, начитанная и очень православная! С ней тебе будет интересно и полезно поговорить! Посоветуешься и насчёт семинарии!»
Вскоре я поехал с ней в Голутвино.
Было начало лета. Помню грязную станцию, провинциальный город, обшарпанные здания и местный храм, оборудованный под магазин.
Монастырь только-только начал воссоздаваться. По праздникам и воскресным дням действовал один-единственный храм, который нуждался в капитальном ремонте. Окормлять сестёр сюда приезжал батюшка из местного благочиния. Неподалёку от церкви стояло трёхэтажное здание женского общежития. Там жили сестры — монахини и послушницы.
Наташа встретила меня радушно и повела через весь город показывать храм, где молилось когда-то воинство Дмитрия Донского перед походом на Куликово поле и где после битвы отпевали погибших.
Мы забрались под самый купол. В памяти — своды из красного кирпича, жухлая прошлогодняя трава, пробившаяся сквозь разодранный скат крыши, и приветливая Наташа, при общении с которой возникало чувство, что вот наконец перед тобой — твоя родная сестра во Христе. И так радостно было осознавать, что и она, и я думаем, мыслим и веруем одинаково.
Вернувшись обратно, мы направились к матери Ксении.
На пороге стояла игуменья с золотым наперсным крестом и с посохом — молодая и, как бы в миру сказали, привлекательная женщина.
- Мать Ксения, — представилась она, обратившись ко мне:
- А ты, мил человек, кто будешь?
Я наклонился под её благословение, назвал себя и коротко рассказал о цели своего приезда.
- Видела я, как ты фривольно расселся на скамейке! — сказала она. — Нога на ногу, грудь колесом, словно мешок с овсом! Не знаю — не знаю, как ты по духовному пути идти собираешься! В семинарии так не сидят! Там тебя за это любой старец палкой так огреет, что всю спину прогреет! Это — поза блудного беса! Ты ещё закури — и о спасении поговори!
- Простите, матушка! — отвечал я, краснея. — Больше не повторится!
- То-то же! Ну а петь-то ты умеешь?
Я вспомнил, как любил петь Окуджаву и Высоцкого:
- Умею.
- Небось как лягушка квакаешь! — и засмеялась. — Ну ты не смущайся, это я пошутить решила! В общем, я тебе так скажу: что-то не пойму я тебя — весёлости в тебе нет, но и тоски не вижу. Однако грусть в глазах имеешь. Чего грустишь-то? А-а?
В двух словах я рассказал матери Ксении о своей жизни и поделился ощущениями, появившимися после поездок в лавру: отец Кирилл в семинарии меня учиться-то благословил, а всё равно на душе тревожно. Так ли я поступаю, туда ли иду? Всё-таки большая перемена произошла в жизни, и начинаю я всё с нуля. С работы ушёл, высшее образование забросил, иностранные языки потерял.
- Идёшь-то ты туда, куда надо, — сказала игуменья. — А время само покажет, куда путь тебе ляжет! Цель-то благая — и решил ты всё правильно. Хочешь, я тебе книгу дам хорошую? Она называется «Исповедь странника своему духовному отцу». Только обязательно отдай мне её обратно через Наталью, когда прочитаешь. Там об Иисусовой молитве написано. Не листай, а читай! Не оторвёшься! Ну а мне пора, везде на дыре дыра, а я с тобой всё лясы точу, никак не замолчу!
Я поблагодарил мать-игуменью. Она была лишь года на три старше меня, но между нами была целая пропасть. В разговоре с ней я как бы вернулся в далёкое прошлое, во времена, предшествовавшие моему рождению. Там всё было серьёзно, реально и без фантазий, в рамках суровой аскетической жизни на фоне разлагающегося во грехах мира. Русский полусказочный пейзаж, лес вдали; порывистый ветер и тёплые лучи солнца на лице; пруд, подёрнутый ряской, полуразрушенный сарай, где хранились разные монастырские принадлежности по хозяйству, и, наконец, сам вид послушниц — девушек с чистыми лицами, скромных, молитвенных — всё это перечёркивало своей значимостью, жизненностью и невидимой многовековой традицией всю мою городскую — наносную и безбожную — жизнь, какие-то амбиции, горделивые иллюзии и раздутое самомнение.
Я чувствовал себя жалким и никчёмным. Здесь, именно здесь, в монастыре, была настоящая жизнь. Жизнь двадцати девушек, посвятивших себя Богу под руководством мудрой матери Ксении. С какими трудностями они уже столкнулись? Сколько всего грязного и жестокого готовил им ещё окружающий мир? Как же я уважал их тогда за решительный жизненный выбор, как высоко ценил стремление вверить себя и своё целомудрие, всю свою юную и ещё нерастраченную красоту в руки Божий!
Я глядел вокруг себя и старался всё запомнить — лицо игуменьи, её внимание ко мне, некоторое нарочитое юродство в использовании народных поговорок и шуток. Да, ещё я присутствовал на трапезе. Вместе с каким-то молодым человеком с хвостиком на голове. Мы молча ели суп из лапши, постное второе, а сзади кто-то читал выдержки из жития святого. В окно краешком слепящего диска заглядывало солнце.
Перед прощанием Наташа сказала мне доверительно, что пока ещё не все сестры удачно подвизаются на духовной стезе. Бывают и срывы, и истерики. Наконец, у некоторых просто тяжёлый характер.
- Но всё равно, — добавила она, — мы все — одно целое и должны взаимно сострадать друг другу.
Уроки пономарства
Знаменский храм на Рижской многое дал мне. Под его низкими расписанными сводами с тонким запахом ладана я понемногу стал узнавать характеры людей, нюансы внутри-церковного общения. Александр Петрович, храмовый алтарник, уделял мне должное внимание и учил пономарить:
- Текст читай без выражения, монотонно! С выражением читают люди экзальтированные и страстные! Особенно бабы там разные — прости Господи! Они навязывают своё настроение всем людям, а это недопустимо. Монотонное чтение Псалтири даёт возможность сосредоточиться на содержании и ни на что не отвлекаться! Ясно? Что молчишь? А ну читай дальше!
- Блажен муж иже не иде на совет нечестивых...
- Ну вот так-то лучше! И всё равно тебе ещё много надо работать над собой! А как же иначе? Иначе нельзя! Вот ты думаешь, что пришёл сюда с тремя высшими образованиями и всё знаешь-понимаешь? Нет! Думай о себе смиренно! Я грешник, ничегошеньки не знаю, ни бельмеса не понимаю, пень пнём! А все светские науки — ерунда и заумь, поверь мне, старику! Философия — сказки для взрослых и словесная эквилибристика! Ты скажи — кого-нибудь они спасли? Нет, дорогой мой! От
большого ума большие скорби, только и всего! А потом люди в психушки попадают, в лестничные пролёты бросаются! А у нас с тобой здесь наука духовная! Высочайшего полёта! А как она познаётся? Только смирением!
- Александр Петрович, меня вот тут мучают вопросы разные...
- Оставь их пока при себе! Глядишь — и сами по себе рассосутся! Запомни: никогда не налетай на людей духовных и сведущих и не тереби их: а это как? А это почему? А то зачем? Знай помалкивай да повторяй про себя: «Я — хуже всякой твари»! Вот это будет польза! И начинай работать над собой! Тут сдержись, там отвернись, а дома запрись в свою клеть, то есть в комнату, и молитовку читай! Вспоминай грехи и кайся — вот твоя первая и главная задача! Ежедневное правило соблюдай неукоснительно — иначе пропадёшь! Только тот, кто верен в малом, верен и в большом! А потом, когда возрастёшь духовно, тогда многие вопросы — вновь повторюсь — сами собой отпадут! Останутся только самые нужные и насущные. Вот тогда и беги с ними к духовнику. А у кого попало ни о чём серьёзном не спрашивай. Насоветуют — век не разберёшься! А вообще, чем больше подвизаешься, тем меньше праздного пустословия остаётся в голове! Высшее состояние, Володенька, — это благое молчание! Да молчит пред Богом вся тварь! Так-то вот, мой дорогой! Ну продолжай!
- Живый в помощи вышняго в крове Бога небесного водворится. Рече Господеви...
- Не тяни слова!
- Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей и по множеству беззаконий моих...
- А теперь тараторишь! Не спеши! Читай не борзяся! Ладно, на сегодня хватит! Ставлю тебе четвёрку с минусом!
Помянник
В алтаре Александр Петрович во время службы тайком давал мне особый помянник — об убиенных и замученных в 20-е и 30-е годы христианах — мирянах и священнослужителях. Это была небольшая самиздатовская книжечка с мелким отпечатанным текстом, но она вызвала во мне настоящее потрясение. Слушая литургию и пение «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца мира и земли...», я затаённо вчитывался в содержание помянника:
протоиерей Мансуров — схвачен, подвержен пыткам и поднят на штыки;
священник Пётр Зуев — утоплен в проруби; староста храма Знамения Божией Матери N-ского уезда Михаил Каверин — закопан живьём в землю;
дьякон Фаддей Строганов — на виду у матушки и шестерых детей с него содрали кожу и отрубили голову, а супругу с детьми зверски изнасиловали и убили;
три монахини — Вера, Мария и Нина — из Воронежской губернии после бесчеловечного надругательства над собой приняли мученическую кончину;
мирянин Иван Крачковский —утоплен в нечистотах;
священник Иннокентий Маслов — повешен за волосы на Царских вратах;
алтарник Михаил Кожинов — сожжён в паровозной топке;
учащаяся одесской гимназии Вера Залесская — схвачена революционными матросами в храме во время причастия, привязана в парке к дереву и изнасилована до смерти...
— Всех поминай! — говорил мне Александр Петрович, — моли Господа, чтобы Он простил им все прегрешения вольные и невольные, но и сам проси у них помощи и заступничества, потому что все они — святые мученики, пострадавшие за Христа! Дай и нам Бог так же достойно встретить свою кончину!
Господи, какое страшное было это время! Как можно было так глумиться над человеком, издеваться над целомудренными инокинями, терзать школьницу — мою неизвестную сестру во Христе!.. Но, видимо, во времена беззакония и жестокости всё сходит со своих орбит, и злое безумие вселяется в сердце человека, делая его звериным и тёмным. И я ненавидел большевиков утробной ненавистью, но сдерживал эмоции, понимая в глубине сердца, что лучшее противодействие злу — кротость и твёрдость веры мучеников. Такое смирение в сочетании с религиозным достоинством обращает ни во что и штыки, и пытки, и саму смерть. Именно за эти качества христиан ненавидели так люто. А если человек не мог вытерпеть и ломался — или же ожесточался и вёл себя так же, как и мучители, то его кончина не была победой в полном смысле этого слова. Хотя, конечно, удержаться и не врезать по наглой матросской роже, если на то была возможность, довольно сложно. Но не физической силой берёт христианство, а голубиной кротостью. Хотя возможны и другие варианты.
Как-то я читал рассказ об одном молодом белогвардейском офицере, которого читинские большевики схватили вместе с невестой. После долгих издевательств и глумления красноармейцы повели их, нагих и связанных, в мороз, на расстрел. Когда был зачитан приговор, белогвардеец плюнул комиссару прямо в лицо. И этот плевок был сильнее всякой пули. Он свидетельствовал о силе духа человека — даже перед лицом смерти. А что он ещё мог сделать, беспомощный физически? Конечно, это — не молитва за врагов. Но белогвардеец — воин, и он сделал то, что считал необходимым по долгу совести. И христиане древности под пытками тоже сотрясали молитвой идольские капища до самого основания — и говорили в лицо цезарям и прокураторам дерзкие слова, предрекая их скорую погибель.
...Комиссар в ответ на плевок рассвирепел, схватил пленника за волосы, вбил ему сквозь осколки зубов ствол маузера и, матерясь, выстрелил страдальцу в рот. Девушку закололи штыками и, ещё трепещущую, сбросили на убитого белогвардейца в яму и забросали мёрзлой землёй.
...Господи, помилуй мою душу грешную и укрепи в вере, чтобы прожить оставшиеся годы на земле достойно и не согнуться под игом грядущих богоборцев! Не хочу окончить жизнь жалким трусом! Помоги преодолеть искушения и отведи душу от мысли о предательстве! Хочу быть таким, как все мои пострадавшие братья и сестры, — мужественным и смелым, бесстрашным и твёрдым...
Жуйте сухарики!
Как мне рисовалось моё будущее? Сказать сложно. Я думал, вот поступлю в семинарию, буду сидеть на занятиях, готовиться к принятию сана. Что конкретно там, в семинарии, будет происходить, я совершенно не представлял, но всё мне казалось благостным, исполненным надежд и света. А потом — сан. Православный приход. Принятие исповеди у людей. Совершение службы. Проповеди. Стояние в истине. Опасности со стороны власти, которая будет уже антихристовой.
И ещё я чувствовал, как меня что-то — или кто-то ведёт. Я ушёл с работы. И не пропал — устроился в храме. Да, пусть и на низовой должности, но в храме! И будучи сторожем, я уже осваивал новые реальности, изучал незнакомую мне обстановку, входил в жизнь прихода и православия. Что и говорить! Христианство на Руси было для многих тайной за семью печатями, необъятным миром с многовековыми традициями и двухтысячелетним прошлым. Вера открывалась мне изнутри, показывая вход в свои сокровенные глубины. Следя за службой, я удивлялся её сложности, красоте, благозвучию, слаженности отдельных её компонентов, обилию богослужебных книг — огромных, тяжёлых, с жёлтыми от времени страницами. А как-то я достал книгу «Русская православная церковь» на арабском языке и увидел там фотографии внушительных митрополитов, архиепископов на церковном симпозиуме, а рядом с ними — переводчика в рясе, который о чём-то бодро вещал. Вид у него, правда, был немного измождённый и высохший. Этот сюжет натолкнул меня на мысль: а не придётся ли и мне поначалу делать нечто похожее? Ведь пока я стану священником, целые реки воды утекут. Наверняка в Церкви захотят использовать мои знания языков... Что ж, пусть будет, как будет.
Меня работники храма в принципе приняли в свой коллектив и даже считали за своего. Я во всём им поддакивал, соглашался, смеялся, когда нужно было смеяться, бросался бегом исполнять любое поручение — и это объективно работало в мою пользу. Матушки-монахини, которых было немало в храме, тоже приняли меня радушно. Самой старшей из них, Екатерине, я стелил постель в крестильне, слушал её неспешные рассказы о разных случаях из жизни прихода и старался помогать ей. Мне она нравилась и чем-то напоминала мою покойную бабушку. Один и тот же тип лица, похожий рост и говор.
Она командовала прислужницами и прочими женщинами, которые добровольно оставались мыть пол в храме после службы. Я любил слушать её рассказы, когда мы оставались совсем одни. Иногда она просила, чтобы я почитал ей молитвы на ночь, крестилась, вздыхала... Потом я уходил, и она ложилась спать. Я осторожно закрывал дверь просторной крестильной комнаты и шёл в алтарь.
Я наблюдал за жизнью пожилых монахинь в храме — совершенно безответные и тихие, они только и делали, что без конца работали, что-то шили, тёрли, скребли, убирали и следили за состоянием богослужебных одежд. Одна из них, чувашка, была особенно тихой и скромной. Необидчивая, маленького роста, она отвечала за пошив одежды. Иногда я помогал ей вешать облачения на антресоли — с помощью длинной палки, на конце которой был приделан крючок.
У каждой из матушек была своя необыкновенная история прихода к вере. У кого горе произошло, у кого — болезнь, у кого — видение. А у кого и так, без всяких тяжких обстоятельств, запросилась душа, будто птичка, на волю, к Богу — и прилетела в храм.
Матушка Екатерина говорила мне: «Старец один нам сказал — сестры, хлеб нонче уже старайтесь не вкушать. Близится время, когда Антихрист воссядет на престоле в Ерусалиме! Сушите лучше сухарики да жуйте их вместо мякоти! Ибо когда начнётся голод, трудно будет себе сразу во всём отказывать, в том числе и в белом хлебушке! А вы уж сегодня привыкайте! Да, касатик! Мы пять мешков запасли! Слава Тебе, Господи! Накось, попробуй!»
В морозные ночи я любил подниматься на колокольню. Открывал люк и выходил на площадку под холодные мерцающие звёзды. С высоты я видел двор приходского дома, справа — железнодорожные пути, ведущие к Рижскому вокзалу. Рядом возвышались двенадцатиэтажные блочные дома, а вдали виднелись огни Сущёвского Вала.
Тут и там на перекладинах висели тёмные колокола. Все они были старинной работы, самой разной величины. Чья-то опытная рука подвела несколько верёвок от языков к одной педали, а другие концы завязала в узлы и закрепила их к перилам.
На большие праздники приходил звонарь — высокий, тощий мужичок навеселе, с красно-синим носом. Ему не стоялось на одном месте, он размахивал руками, притоптывал и гордо рассказывал о том, как в далёком прошлом был водителем номенклатурной машины и возил большого начальника. За ящиком ему давали пятьдесят рублей, он залезал на колокольню — и вскоре раздавался долгожданный звон. Однажды я застал его за работой. На ветру, зимой он стоял под небом, широко расставив ноги. Один ботинок он вдевал в верёвочную петлю, которая держала несколько верёвок от колоколов, правой рукой брался за верёвку от главного колокола, а левой контролировал звонницу. И — начинал плясать. Залихватски, высоко поднимая ноги, даже взбрыкивая ими, он извлекал с помощью этого танца первые звуки. Потом к ним присоединялись вторые, третьи — и вот уже не звонарь, а танцующий Шива извивался на деревянном помосте.
На колокольный звон систематически жаловались местные жильцы. Приходили со скандалом в храм, писали письма в газеты, а несколько энтузиастов даже обращались в опорный пункт милиции с требованием «навести порядок»: «Они нам детей будят! Им спать надо, а они из церкви дикие звуки слышат — и пугаются, плачут! И нам тоже надо отдыхать после работы! Пусть прекратят свои бесчинства! Или храм закройте и поразгоните всех к чертям собачьим!»
А жизнь-то остановится!
...Я очень огорчался из-за бытового атеизма москвичей, тем более что их обывательский интерес к экстрасенсам и заговорённым ими банкам с водой и прочим оккультным вещам стремительно возрастал. Как-то по Москве заговорили об экстрасенсе из Англии, который выступил по российскому телевидению и завёл всем зрителям их сломанные часы. Я смотрел эту передачу и видел глаза этого человека, и на меня они произвели неприятное впечатление. Как будто бы собранные в пучок тонкие иглы. Но не в этом дело.
Действительно, он сказал во всеуслышание, с чопорными английскими интонациями: «Дамы и господа! Если вы храните в своих чуланах какие-нибудь старые испорченные часы — напольные, настенные или наручные, несите всё это в гостиную и положите перед телевизором — и я заведу их!»
Кто-то из моих родных сбегал и, смеясь, — дескать, да в шутку я, просто так! — вернулся с женскими остановившимися год назад часами. И... неожиданно они пошли! Это было чудо. Правда, осадок от него остался неприятным. Что за сила была здесь задействована? На святого этот специалист по часам похож не был.
На следующий день весь город только и говорил, что о часах, которые по внушению англичанина «сами собой исправились и пошли».
Помню, отец Владислав, Александр Петрович и я ехали все вместе по Пречистенке в переполненном троллейбусе. Батюшка с Петровичем сидели по ходу движения и неспешно беседовали о спасении и всеобщем падении нравов. Пассажиры с любопытством прислушивались к необычной тематике их диалога. Потом одна пожилая женщина обратилась к своей соседке:
- А вы знаете, вчера симпатичный молодой экстрасенс из Англии — ну тот, который Биг-Бен остановил, по телевизору всем часы завёл!
- И вам тоже?
- Вот именно! Вы представляете?! Я опрометью побежала к своему секретеру, вытащи ла сломанные часики, подарок мужа, и под несла к экрану! И что вы думаете? Этот красавец взял их да и завёл!
Отец Владислав поднял голову, посмотрел на неё и тихо произнёс:
- Часы-то заведутся, а жизнь — остановится!
Александр Петрович подтвердил со своего места:
- Вполне возможно! В экстрасенсе — полчище бесов! Надо было не часы к телевизору подносить, а перекрестить его да прочитать молитву на отгнание всякой нечистой силы! Вот тогда бы мы посмотрели, чья взяла! Правильно, батюшка?
Я надолго запомнил всё сказанное. Реакция отца Владислава и та власть, с которой он произнёс свои слова, произвели на меня глубокое впечатление.
Так их, атеистов!
Пасха Христова
Закончился Великий пост и наступила Светлая Христова Пасха. На ночную службу собралось великое множество народа, и все дежурные бегали как заведённые, пытаясь обеспечить порядок. Прибыли краснолицый участковый и наряд милиции. Всех их нужно было «угобзить» после службы — подарить куличи, кагор и яйца.
Настроение у собравшихся было праздничным. Все пришли нарядно одетые, с детьми. Поначалу ходили вокруг храма, общались, разговаривали на разные темы, а затем, в полночь, начался крестный ход. В храме погасли паникадила. Священство, предваряемое свещеносцами и хоругвеносцами, в полумраке вышло из алтаря и направилось к выходу:
- Воскресение Твое Христе Спасе, ангелы поют на небесех...
Волнующееся море горящих свечей, звон кадильных бубенцов, приглушённые голоса:
- Отец дьякон, иди рядом, куда понёсся?
- Простите, святый отче, затолкали!
Вокруг храма — огромное число любопытных, стоит оцепление из милиции и дружинников. Где-то кричит пьяный голос. Верующие сосредоточены и взволнованы.
В глубине моего сердца — вырывающаяся радость от светлого Воскресения Христова. Так птица высвобождает крылья из силков и облегчённо вылетает на свободу, в тающие облака и безграничную синеву неба.
Мы обходим вокруг храма, возвращаемся к входу, останавливаемся.
Наступает тишина. Настоятель даёт возглас:
- Слава Святей и Единосущней и Животворящей и Нераздельной Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков!
Детский хор отвечает:
- Аминь!
Раздаётся пасхальное песнопение:
- Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!
Дети подхватывают, священник оборачивается к людям и кричит изо всех сил: — Христос воскресе!»
И слышится многоголосый ликующий ответ:
- Воистину воскресе!»
Начинаются запевы:
- Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...
- Яко исчезают дым да исче-е-езнут...
Трещат свечи, тёплый весенний воздух пахнет озоном, и какое-то таинственное преизоби-лие жизни чувствуешь и в природе, и в людях. И небо как будто стало ниже, приблизилось к нам, раскинув мягкие ступени редких облаков, как лестницу из сна Иакова, и ощущение невыразимой вечной радости и бессмертия с каждым вздохом утверждало в душе мир и покой.
Уход из мира
Летом мне написали характеристику для семинарии, и я отвёз её прямо в Сергиев Посад — в приёмную комиссию вместе с остальными документами. Ездил я туда не один — со мной был ещё один будущий абитуриент по фамилии... Пржевальский. Как и я, в прошлом он работал переводчиком, но с немецкого. По характеру был педантичен, искренен,собран и целеустремлён. Мы познакомились на приходе и подружились. По светскому прошлому у нас было много общего. Мы не принимали Советскую власть, любили Христа, признавали необходимость Церкви с её таинствами и действие Промысла Божиего в мире.
Мы вместе учились читать по-церковнославянски, сообща учили молитвы, необходимые для поступления.
...Добраться до семинарии было не так-то просто. В начале дорожки, ведущей к Академическому корпусу (там тогда находилась семинария), стояла сторожевая будка. В ней сидел непоступивший прошлогодник. Лица, подобные ему, ждали, когда кто-нибудь из первоклассников семинарии вылетит — за нарушение дисциплины там или по причине неуспеваемости, чтобы тотчас занять его место.
Нас остановили и долго уточняли, куда мы идём и зачем. Проникнув внутрь, мы оказались в самом здании. Внизу на первом этаже — ещё одна будка, там сидел уже семинарист с книгой. Он рассеянно посмотрел сквозь нас: «Проходите!»
Мы поднялись на второй этаж. Я обратил внимание на массивную железную лестницу со ступеньками, протёртыми до блеска тысячами спускавшихся и поднимавшихся семинарских ног — прошлого века и нынешнего.
А вот и третий этаж. Мы сдаём документы в узкое окошечко канцелярии, и нам сообщают о датах приёмных экзаменов. В перечень предметов входят церковно-славянский язык, пение, сочинение и три собеседования — у инспектора семинарии, проректора по учебной работе и ректора.
И ещё нам сообщают, что мы должны приехать в Сергиев Посад в начале июня и оставаться там целый месяц в общежитии. Сдавать экзамены и после этого ещё две недели работать во славу Божию на семинарских объектах. Только что семинарии отдали завод детских игрушек, который располагался в переходном корпусе, и надо было освобождать помещения от гигантских станков, строительного мусора и прочих лишних предметов заводского профиля.
Хорошо помню, как в начале июня я собрал рюкзак, положил туда самые необходимые вещи и, попрощавшись с родителями, поехал на Ярославский вокзал. Была пасмурная погода, дул тёплый ветер, и в электричке было жарко. Пассажиры читали газеты, верующие — духовные книги и молитвословы, а по проходам циркулировали нищие, продавцы разных мелочей, гармонисты, певцы и прочие мелкие деловые люди, волевым образом входившие в транзитную поездную жизнь.
Мелькнул с правой стороны Хотьковский женский монастырь из красного кирпича, высокие мосты над дорогой, и поезд начал замедлять ход.
Молитва у преподобного
Лавра встретила меня сыростью и прохладой. Повсюду были посажены яркие красивые цветы. Деревья скрывали Духовскую церковь, где покоились мощи преподобного Максима Грека. По мощёному булыжнику я пересёк площадь и вошёл в Троицкий собор — помолиться и попросить помощи преподобного Сергия на поступление в семинарию.
Так, впрочем, делали все.
Подсвечник перед ракой был уставлен свечками разной величины. Пожилая женщина собирала огарки в небольшой алюминиевый ящик. Каждый из приходивших в храм желал, чтобы его свеча стояла непременно на этом подсвечнике. Так сказать, ближе к святому, чтобы он лучше слышал обращённые к нему молитвы. Места не хватало, поэтому, как только какая-нибудь свеча сгорала хотя бы на одну четверть, её тотчас вынимали и бросали в коробку. Потом чья-то проворная рука быстро ставила другую свечку. Все они горели в недопустимой близости друг к другу, от жары плавились, текли и наклонялись в разные стороны — и это опять служило поводом для очередной «зачистки» подсвечника.
В правом углу иконостаса за стеклом были закреплены богослужебные сосуды, которыми пользовался преподобный в дни своей жизни. Позже я всегда считал своим долгом благоговейно поцеловать их, хотя бы и через стекло.
К поверхности раки ежедневно прикасались тысячи губ и рук — и читающий акафист иеромонах осторожно протирал стекло над мощами и серебряные края раки тряпочкой с благовониями.
Наклонясь перед преподобным Сергием, я просил у него молитвенного предстательства за себя, молил о вразумлении Нины, о здоровье родителей и сына.
В монастырской стене
Всех абитуриентов расселили в восточной части монастырской стены. Там располагались кельи для монахов, семинарские классы регентов и иконописцев, а также пошивочная мастерская и хозяйственные склады. Каждый из нас получил своё временное место — кровать и тумбочку, как в армии. Туалет находился на пол-этажа ниже, там всё протекало, капало и пахло хлоркой. За узкими окнами стены я видел площадь с нищими, толпившимися туристами, продавцами сувениров, стоявшими за складными столиками.
В особом ходу тогда были матрёшки с меченой головой Gorbi. Где-то в Москве кустарями заготавливались болванки, с помощью местных «челноков» их привозили поездом в Сергиев Посад, примитивно раскрашивали — и скупые иностранцы традиционно скупали всю эту дешёвку. Площадь контролировалась местными мафиози, над которыми стояли подмосковные авторитеты, а тех, в свою очередь, «пасли» из Москвы. Смысл этих тройных контролей заключался в том, чтобы помимо непосредственных покупателей «обезжиривать» ещё изготовителей и продавцов и брать положенный процент. А не будешь давать, придут какие-нибудь собирательные махмуд с казбеком и долго будут стучать тебе той же болванкой по башке в педагогических целях. И ты лишишься торговой точки. А может, заодно и головы.
Нищим, которых на площади перед лаврой было великое множество, уже тогда «спустили» из местного криминального мира несовершеннолетних беспризорных, которых они должны были выдавать за своих детей и заставлять попрошайничать. Грязные и дерзкие, дети приставали к прохожим, хватали их за ноги, громко требовали денег. Взгляд у беспризорников был тяжёлый и порочный. По ночам их спаивали, периодически насиловали, держали в антисанитарных условиях по чердакам и подвалам, привязывая к трубам: «Убежишь — враз поймаем! Убьём на х... — и не пикнешь, а труп собакам за монастырём в овраг бросим!»
Часто я видел, как нищие дрались друг с другом, это было жуткое зрелище. Грязный мат, удары палками, крики, а вокруг радостно снуют те же беспризорники, свистят, матерятся и подзадоривают дерущихся. Святое место, всемирно известный монастырь — обитель мира и покоя... И я опять думал: ну почему всё так получается? Пороки мира в лице торгашей, криминала и нищих подступают к самому порогу святой обители. И стекает обратно за монастырь очередная тёмная людская волна, уступая место новой. Как-то Маргарет Тэтчер, побывав в лавре, сказала нечто следующее:
«O, that monastery is a precious pearl in the widst of sheet!»
И действительно, город был серым и тусклым, с безликими озлобленными людьми. Пожилые хмурились и смотрели исподлобья — по ним уже прошлась провинциальная советская жизнь и вывернула наизнанку всю душу, заполнив её ненавистью, неверием и страхом. Люди средних лет пребывали в суетной ожесточённости — безденежье, изматывающая работа, семейные проблемы, хроническая нехватка жилплощади. Да ещё опущенная личная жизнь, где почти всё время — скандалы, нервотрепка, отсутствие любви, выяснение отношений, неверность и взаимное неуважение. Мир подростков — оттуда слышался бешеный смех, глядели бессмысленно глаза с расширенными зрачками, раздавалась матерная брань и торжествовала блатная распущенность. А то общее, что связывало всё население этого маленького захолустного города, представляло собой массовое пьянство. Семинаристы и монахи, выходившие по делам в город, разительно отличались от местного населения светлыми лицами и приличным поведением.
Вместе со мной в одной комнате разместилось около тридцати человек. Днём мы сдавали экзамены, волновались, занимали очереди, желали себе успеха, а ближе к вечеру совершали прогулки по территории лавры — и всё нам казалось необыкновенным и новым. И даже запрет выходить за «расположение» монастыря воспринимался романтически. Я никогда в жизни не был в лавре вечером — тогда, когда народ расходится по домам, и ворота монастыря запираются на замок.
В июне ясными закатными часами, когда сумерки не спешили опуститься на обитель и вокруг было ещё светло и тихо, я в затаённом настроении подходил к Духовской церкви, смотрел на надгробия почивших насельников и замечал все мелочи: как роса прибила траву к могильным плитам, как закрылись, готовясь ко сну, нежные цветы — плоды монашеских трудов. Как на скат жестяной крыши лёг последний закатный блик уже невидимого солнца.
Безоблачным было небо, и голуби улетели на нижний ярус колокольни, чтобы сидеть там, переминаясь красными лапками по карнизу, и ждать рассвета нового дня.
Пустые пространства — площадь, монастырские дорожки, белые каменные плиты под ногами, сглаженные многовековой поступью паломников, — завораживали взор. Тишина, какая вокруг тишина, а я иду неспешно, как вечный путник и странник, и шаги мои порождают эхо, а никого нет — ни спереди, ни сзади. И я приближался к древней каменной стене Троицкого собора и благоговейно целовал её святую матовую поверхность, так много повидавшую на своём веку. И — тихо стоял рядом и молился. И так хорошо мне было на душе... Как же благодатно действует иногда одиночество!..
Лапы елей — тёмно-зелёные, с нежными светло-изумрудными ростками. Сколько верующих побывало в лавре, сколько людей, обуреваемых горем и страданием, приходило сюда за утешением?.. Смутное время, поляки, Мазепа. Революция, Отечественная война, годы разрухи. Монастырь выстоял во все времена. Я узнал, что после закрытия лавры, ещё до войны, её стены были переоборудованы под коммуналки. Там жили — отдыхали от работы, ссорились и мирились, любили и ставили патефон с Утёсовым — обычные пролетарские семьи. Купола Успенского собора были потускневшие и ржавые, мощи преподобного Сергия изъяли и оприходовали, и везде царил дух запустения. В храме-трапезной во имя преподобного Сергия открыли тир, крутили кино. Народ метко стрелял в мишени, изображавшие Керзона и Чемберлена, ходил лузгать семечки на фильмы — короче, культурно проводил время досуга и посмеивался над религиозным дурманом прошлого. Обожествление Ленина, чьи останки заняли — по значимости — мощи основателя обители и были выставлены на предмет массового поклонения, никаких недоумений у советских людей почему-то не вызывало. Все искренно считали себя атеистами, хотя на деле представляли собой очередное извращённое религиозное движение в государственном масштабе с культом человекобожия. После войны лавру открыли заново. Разрешили организовать и семинарские курсы — правда, сначала только на территории Новодевичьего монастыря. Позже семинария переехала в Сергиев Посад. Учащихся было мало. Власть преследовала тех молодых людей, которые хотели связать свою жизнь с православием. То военкомат ставила им на пути, то угрожала расправой и даже заключением. Тем, кто действительно хотел быть с Богом, приходилось трудно. Всеми правдами и неправдами, часто — хитростью они попадали в семинарию. Но нередко их извлекали и оттуда. У государства глаз намётан. Писали ректору письма — и человек моментально отчислялся. С другой стороны, органы засылали в семинарию свои кадры — и те беспрепятственно учились, переходя из класса в класс и исправно стуча на верующих семинаристов и независимых преподавателей. Правда, когда наступало время Великого поста, засланные гэбисты по-настоящему мучились и страдали. Это было подлинным испытанием их воли и выносливости. Восьмичасовые службы на ногах, длинные совместные молитвы в течение сорока дней — даже верующий с трудом выдерживает эту нагрузку. А неверующей-то душе каково? В классе и в разговорах ты можешь сколько угодно прикидываться и врать, но когда дело доходит до практической стороны христианства — молитвы и поста — и ты, тайный атеист, должен совершенно бессмысленно выстаивать многочасовые богослужения, что тогда? Самая настоящая пытка...
...Навстречу мне шёл молодой священник. Я подбежал к нему и с трепетом взял благословение. И увидел — он улыбался. Молодое приятное лицо, серебряный крест, чёрное облачение. На вид— лет двадцать пять. И полное ощущение, что у этого человека в сердце — торжественная тишина, свет и мир.
Бесы полосатые
Один из абитуриентов, молодой человек в коричневом пиджаке, привлёк всеобщее внимание тем, что искусно говорил на языке старцев и претендовал на знание святоотеческих творений. Он производил впечатление эрудита, и все мы были уверены, что он-то уж точно поступит:
- Вот, братцы мои! Кончился ещё один Божий денёк! Скоро и на боковую пора! Слава Тебе, Господи, за всё! Но для христианина самое главное, чтобы и во сне об Иисусовой молитве не забывать! Он, рогатый-косматый, когда нас когтем-то подцепить норовит? Известное дело — когда мы спим! Святые Отцы мудрые были и ограничивали время сна. Бодрствовали, молились! Вот и мы так должны! Ну простите меня, грешного и окаянного, если кого чем обидел, не так посмотрел, лишнее болтал, может быть! Человек немощен! Господи, прости мою душу грешную! А поработали мы сегодня неплохо! Во славу Божию! Ну с Богом! А вы, братья, видели, как сегодня бесы полосатые над лаврой по воздуху летали?
- Какие ещё бесы?
- Да воздушные шары такие — огромные, с разноцветными полосками, на верёвках. Праздник здесь у них в миру — День города! Так они вишь чего учудили — народное гулянье устроили на площади перед святым монастырём! Ох уж тут бесов поналетело —видимо-невидимо! А люди несмышлёные, грешники, ходят и ничего не ведают!
Игорь Зорин, мой сосед по комнате, москвич с высшим образованием, шепчет мне: «Он что, crazy»?
Игорь — высокий черноволосый молодой человек, с открытым и чуть ироничным взглядом. Он смеётся над порядками в семинарии, над нашими обязанностями как абитуриентов. Его возмущает, что нужно постоянно работать на территории бывшего игрушечного завода и выносить оттуда литые чугунные чушки.
- Мы должны больше отдыхать! Экзамены выматывают нервы! А потом — что это такие за послушания, когда ты как люмпен должен вкалывать за здорово живёшь, не высыпаться, а наутро, высунув язык, бежать на собеседования? Мы же приехали сюда учиться!
К нему подходит украинец Михаил Пилипенко с тонкими усиками и ехидно спрашивает:
- А чого это тебе то не нравится, это не нравится? А мабуть, ты зараз против православия?
Игорь теряется:
- Да я так, просто шучу!
- Не-е, братец, це не шутки! Ты поступаешь в семинарию и хочешь стать священником! А чому ж ты будешь учить своих прихожан? Шоб они, як и ты, не працювали и сачковали — и начальство не уважали? Не-е, дорогой, так дело не пойдёт!
- Ладно, — говорит Игорь, — хватит ко мне приставать!
Но Михаил не может успокоиться:
- Поступают тут разные у духовные школы, а потом рiдну вiру продают! Як католики!
Игорь заводится. Он — поклонник отца Александра Меня, который любил католиков.
- А чем это католики тебе «предатели»? Они тоже верят во Христа, умирали за Него во время опасности!
- И нехай вмирали! Чем больше б их повмирало, тем лучше! Они ж — еретики, а як каже святой мученик Иустин Философ, «еретики — вони гирше бешеных собак!» И даже если такой умрёт мученической смертью за веру, он всё равно зараз пiде в ад!
- Ну это ты, брат, загнул!
- Да это не я «загнул», а великий святой православной церкви Иустин Философ так сказал! Мабуть, тоби и наши святые не нравятся?
- Нет, почему же, я уважаю Иустина...
- Святого Иустина! Не треба панибратства со святыми! Гусь свинье не товарищ!
Игорь в раздражении обращается к Михаилу с каверзным вопросом:
- Скажи — а вот если бы ты родился в Италии? Тебя бы крестили в католическом храме, и ты всю жизнь был бы католиком? В чём здесь твоя вина? И почему тебя, воспитанного в другой конфессии, когда все кругом католики, Бог должен обязательно направить в ад?
Михаил задумывается, а потом пристально смотрит на Игоря и отвечает:
- У них у всiх есть доступ к информации. Православие — не иголка у стогу сена. Могут и побачить. А я благодарю Бога за то, шо народився тута! А ты зараз можешь Ухати и чмокати свово Папу в гузку!
Я слушаю разговор и умираю от смеха.
А как насчёт прихода Антихриста?
Из всех собеседований я запомнил встречу у проректора по учебной работе. Я оказался в большом полутёмном кабинете. Справа и слева от входа висели иконы и большие картины в золочёных рамках на библейские сюжеты. Проректор сидел за массивным столом и внешне был как две капли воды похож на Штирлица из телесериала «Семнадцать мгновений весны». Красивый и подтянутый, он производил впечатление военного человека, одетого в штатский костюм. На вид ему было меньше пятидесяти лет. Он листал моё личное дело, которое уже успели завести, и молчал. Потом поднял глаза:
- Скажите, стоит ли православному человеку заниматься миссионерством среди интеллигенции или, скажем шире, вообще общаться на христианские темы в миру среди неверующих? Не лучше ли замкнуться на приходе и работать в своей общине, чтобы углубляться в вере и приближаться к личному спасению?
- Если Господь сподобит меня стать священником, то заниматься апологетикой необходимо. Ещё апостол Павел сказал: «Горе мне, если я не благовествую!» Обществу необходимы правильные нравственные ориентиры, в том числе и интеллигенции. Только для этого нужно иметь соответствующий багаж знаний. Личным спасением священник в любом случае заниматься обязан, то есть формировать из себя живой пример жизни во Христе. Но батюшка живёт не только для себя, он — пастырь. А значит, замыкаться в себе он не имеет права. В принципе это касается любого христианина.
- Ну а, скажем, католики? Они же еретики? Как с ними общаться? Не кажется ли вам, что диалог с ними ни к чему не приведёт? Что же тогда — конфронтация, взаимная нетерпимость?
- Конечно, нет. Конфронтации быть не должно. Ничто так не разъединяет людей, как дух вражды и пролитая кровь. Необходимы серьёзные богословские дискуссии и наличие искреннего желания серьёзно разобрать ся в тех проблемах, которые мешают нашему объединению. Здесь необходимы терпимость и взаимное уважение. Полагаю, что на таких
условиях диалог может состояться.
- Я смотрю, вы настроены оптимистично! А как насчёт прихода Антихриста? Некоторые верующие говорят, что он должен вот-вот появиться, видят везде масонский заговор?
- Времени прихода Антихриста никто не знает. Есть определённые признаки — взаимное охлаждение любви и так далее. Но и это не даёт нам права опускать руки. Надо делать наше общее духовное дело до тех пор, пока есть силы. И не падать духом. Поэтому есть ли заговоры или же их нет — всё равно, жизнь продолжается, и каждый новый день нужно прожить достойно.
- Что ж, желаю удачи. Вы, как я понимаю, человек пишущий. Нам нужны люди, владеющие пером. Так что если поступите, будем вас привлекать. Не возражаете?
Я поблагодарил проректора, попрощался и вышел. В коридоре была толпа абитуриентов. Наиболее ушлые занимали очередь сразу в три кабинета. Несколько человек с интересом изучали доску объявлений. Я подошёл поближе и прочитал:
«Учащийся четвёртого класса МДС Долбилин М.В. отчислен из состава учащихся за дачу неискренних показаний инспекции и за поведение, не соответствующее общему духу семинарии».
Другое гласило: «За самовольное отсутствие на вечерней молитве в расположении семинарии студенту третьего курса академии Е. Панкратову объявить выговор с последним предупреждением. Предупредить, что повторная неявка повлечёт за собой отчисление из состава учащихся».
Рядом висел список проповедников на воскресные и праздничные дни. Перечень курсовых сочинений поражал сложностью богословских формулировок.
Оказавшийся рядом Зорин спрашивает меня:
— Что, «тропари» читаешь? Тебя там ещё нет?
Тропари — это молитвы, которые посвящены тем или иным святым. В них перечисляются добродетели подвижника и прославляются его достоинства. Я ещё не знал, что «тропарями» семинаристы называли внутренние дисциплинарные взыскания.
И ещё одно собеседование — у инспектора семинарии.
- Какая книга из ветхозаветного корпуса Библии произвела на вас наибольшее впечатление?
- Книга Иова.
- Хорошо. Значит, вы намерены быть терпеливым к страданиям?
- Я бы очень этого хотел. От терпения проистекает смирение, а без него нет христианства.
- Посмотрим, посмотрим. А сколько посланий написал апостол Павел?
- Четырнадцать.
- Кто является автором «Катехизиса»?
- Митрополит Филарет.
- Следующий!
Через три дня вывесили списки поступивших. Я обнаружил себя в числе принятых во второй класс.
Тем, кто не поступил, сказали приблизительно следующее: «Не расстраивайтесь, братья! Значит, такова воля Божия! Дерзайте в следующий раз! А за труды по расчистке завалов — спаси вас всех Господи!»
Гаишник
Новый второй класс расселили в восточной стене. Те же кровати и тумбочки — по военному образцу. Почти все из нас имели высшее образование и достаточно солидный возраст—в среднем от двадцати пяти лет и выше. Рядом с нами жили учащиеся четвёртого класса — люди, поднаторевшие в семинарской жизни и пытавшиеся поначалу учить нас уму-разуму. Некоторое время мы смирялись, подчиняясь неписаным законам «дедовщины», но уже очень скоро стали чувствовать себя на равных — сказались жизненный опыт и обретённые ранее социальные навыки общения.
В большинстве своём новоиспечённые семинаристы представляли собой тихих и спокойных людей, имевших врождённую склонность к созерцанию и внутреннему самоуглублению. Но, как и везде, были свои исключения — по характеру, темпераменту и общему складу мышления.
Почти все мы с удовольствием подчинились внутреннему распорядку жизни. Утром — учёба, затем — перерыв на обед, час отдыха и после — вечерние занятия, так называемая самоподготовка. Она заключалась в том, чтобы учащиеся обязательно находились в своём классе и штудировали учебные пособия, готовили уроки на завтра. Давалась также возможность сидеть в библиотеке, но для этого нужно было специально отпрашиваться либо у классного наставника, либо у старосты. В библиотеке был старый паркет, который скрипел под ногами, и тёмно-коричневые столы со специальными полками для литературы. В зале находилось окошечко для получения книг. На выдаче трудились как штатные сотрудницы, так и девушки с регентских курсов. Нередко через это окошечко соединялись судьбы будущих батюшек и матушек. Поэтому семинаристы любили сюда захаживать. Но всё было очень благопристойно, и шуток, открытого флирта никто себе не позволял. Можно сказать, что библиотечные девушки чувствовали себя в этом отношении достаточно вольготно, и у них был широкий выбор в устроении личной жизни. И время также работало на них.
В зале заказов можно было подобрать редкие богословские труды. В этом смысле академическая библиотека была действительно уникальной на всю Россию.
Заведовал ею архимандрит Иеремия, который преподавал литургику в младших классах семинарии. У него была непростая жизненная судьба и специфический характер. Похожий чем-то на Салтыкова-Щедрина, он обладал детским незамутнённым взглядом и совершенно неумолимым характером. Как утверждали семинаристы-старшеклассники, когда-то отец Иеремия работал милиционером в ГАИ, и некоторые особенности милицейской психологии стали неотъемлемой частью его духовного склада. Особенно это проявлялось в категоричности суждений и отсутствии всякого снисхождения к провинившимся — независимо от того, в чём именно состояла вина — в невыученном уроке или же в нарушении библиотечного распорядка. Спецификой его устной речи было то, что он после каждого слова ставил точку с паузой.
- Так! Вы — учащийся — третьего — класса «В» — Камперов! Я — вас — правильно — назвал? Повторите — свою — фамилию! Правильно. Вы — не — приготовили — задание!
- Ваше Высокопреподобие! Дело в том, что вчера нас отправили на послушание — разгружать машины с кирпичом! А когда мы вернулись, то было уже поздно, и я не успел подготовиться! Простите меня, пожалуйста, завтра я всё исправлю!
- Вы — меня — не поняли, — учащийся, — отец Иеремия говорил с расстановкой, делая паузу после каждого слова, — я — вас — спрашиваю — вы — не — приготовили — урок! Так?
- Батюшка, да вчера машину с кирпичом...
- Учащийся — Камперов! Я — ставлю —вам — двойку!
- Простите, батюшка, библиотека была уже закрыта!
- Вы — получили — двойку! И — не — надо — оправданий! Оправдания — от — лукавого!
Семинаристы шутили, представляя его гаишником в рясе, с жезлом и придумывая для водителей, нарушивших дорожные правила, совершенно безвыходные ситуации:
- Стойте! Вы — водитель? Водитель. Так — и — говорите!
- Да я...
- Вы — нарушили — дорожное — правило — № 1 248 — и — должны — быть — наказаны!
- Да я не виноват, потому что...
- Ваши — права! Так — они — проколоты! Всего — хорошего!
- ...!!!
Как-то раз я искал одну редкую книгу на арабском языке. В сопровождении сотрудницы библиотеки мне нужно было пройти по лабиринтам хранилища и опознать фолиант по названию. Вдогонку мне отец Иеремия успел сказать следующее: «А— по —сторонам — не —смотрите! Интересуетесь? Не — надо — интересоваться! Люба, — проследите, — чтобы — учащийся — не — вертел — головой — по — сторонам!»
Это был удивительный в своём роде человек, закавыченный старец.
Протоиерей Михаил Ходанов
Продолжение следует
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.