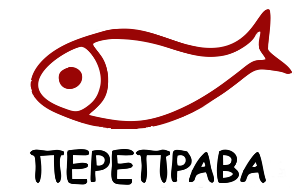Впервые без улыбки примыкаю к старому советскому правилу: «я не читал, но тоже скажу». Я еще не прочитал в «Иностранке» фрагменты книги Ф. Бегбедера «Я верую – я тоже нет». Между тем, сердце сразу задето самим именем книги. В нем уже содержание как на ладони. Да и рецензия Яна Шенкмана в Ex Libris`е не оставляет сомнений, что книга именно о том, что с верой покончено. Шенкман приводит и цитату из Бегбедера: «Не будем говорить о глобализации, об отмене границ (понятия отечества, по сути, уже не существует), об унификации мира, о крахе коммунистической утопии… Все это очень важно: крушение идеологий, религий, утопий. Нет больше Бога, нет больше надежды на равенство между людьми, остается только потребление».
Впервые без улыбки примыкаю к старому советскому правилу: «я не читал, но тоже скажу». Я еще не прочитал в «Иностранке» фрагменты книги Ф. Бегбедера «Я верую – я тоже нет». Между тем, сердце сразу задето самим именем книги. В нем уже содержание как на ладони. Да и рецензия Яна Шенкмана в Ex Libris`е не оставляет сомнений, что книга именно о том, что с верой покончено. Шенкман приводит и цитату из Бегбедера: «Не будем говорить о глобализации, об отмене границ (понятия отечества, по сути, уже не существует), об унификации мира, о крахе коммунистической утопии… Все это очень важно: крушение идеологий, религий, утопий. Нет больше Бога, нет больше надежды на равенство между людьми, остается только потребление».
Когда бы это была простая дерзость самонадеянного атеиста, и возражать бы не стоило. Но Бегбедер знает, что такое церковь. Он мальчиком вырос в вере, и собеседником его в книге является именно ведший его по жизни духовный отец. А вот – «нет Бога, нет надежды на равенство…»
Да и действительно – какое равенство? Мы– то это лучше других знаем, потому что именно мы на глазах мира прикончили эту надежду с какой-то мстительной изобретательностью, чтобы уж ни у кого и сомнений не оставалось. И автор не зря как-то отчетливо связывает крах коммунистической утопии с крушением религий. Они подлинно были связаны. Мы хотели, хотели равенства! Только поставили его на место Бога, и тем и приговорили. И в результате остались с Бегбедером: ни Бога, ни равенства – одно потребление…
Только он-то еще, кажется, смущается и не хочет победы своего «открытия» и потому и пишет книгу, что надеется на братское опровержение, на то, что кто-то вернет ему детскую простоту и Бога. А мы все «не наедимся» никак. Слишком нагуляли аппетит, пока за равенством бегали.
А от Бога отлепились вон еще когда и успели окаменеть за десятилетия государственного безбожия, так что Шенкман с его злорадным цитированием, как это ни печально, про нас, – что мы сегодня «вынужденные» христиане, как азербайджанцы и киргизы – вынужденные мусульмане, а буряты – вынужденные буддисты. Разве что не вынужденные, а невольные. География и история сделали за нас выбор, во что верить, а душа и не пыталась спрашивать – взяла готовое. И мы уже и с верой обходимся вполне потребительски, в терапевтических целях: с непременным крещением (а вдруг? мало ли!), с картинным венчанием под кинокамеру, с освящением офисов и шестисотых «колесниц». Отчего бы иногда от сытости и не побыть в «бедняках Христа»? Отец Сергий Булгаков, вон еще когда и при более печальных обстоятельствах, уже увидел исток нынешнего недуга – «ищут нового барина, чтобы устроиться по-старому».
С видимостью у нас всегда было хорошо: руководители правительства на Пасху в храме стоят – чего еще? Но ведь Бегбедер не о видимости говорит. Он и сам, поди, воскресную мессу еще в храме стоит (простите, сидит). Нет, тут задето нечто более болезненное, что беспокоило участников наших первых религиозно-философских обществ, мучило С.Н. Дурылина, который, уходя в 20-е годы из священства, говорил о «подтаивании христианства», тревожило отца Александра Шмемана в конце двадцатого века и больно задевает искренние умы сейчас. Так что, коли не кривить душой, то формула «Я верую – я тоже нет» известна в определенной степени в разный час каждому честному христианскому сердцу. И если что и злит (простите за детский глагол!), то не сама формула, а таящаяся в ней и жадно принимаемая нами лукавая готовность красиво сдаться, потакание себе, выговаривание себе «права» не верить. Чего напрягаться-то, если нас, которые «тоже нет», так много?
Только мать-церковь и не обещала даровых-то плодов. И с самого начала говорила, что «Царствие Божие силою нудится», и не страшилась слова «нудится», которое так плохо сочетается со светом Небесного Царствия. Но и это Бегбедер знает не хуже нас, потому что рос с Евангелием и под духовным доглядом.
Так чего же я хочу, к чему подступаюсь?
А к тому, что я, может быть, еще с месяц назад, да даже и неделю назад не стал бы браться за перо и опровергать горько правого писателя, а тянул да тянул свою лямку, «нудил» Царствие Небесное в своем приходском храме, как многие из нас. Не обманывая себя, но и не теряя надежды, как делают искусственное дыхание недавно вытащенному утопающему (а нас всех недавно вытащили): вдруг при очередном усилии дыхание и схватится…
С неделю назад не стал бы писать. А вот теперь отваживаюсь, потому что нечаянно пережил чувство, которым как-то и грех не поделиться.
Гостил с друзьями у своего товарища в деревне под Изборском. Было воскресенье. И хоть встал до литургии и мог бы поспеть на службу к изборскому Николе, но неудобно было перед спящими – не предупредил. Встанут, а меня нет, – и свяжу им день. И пошел себе потихоньку по росной сверкающей траве в солнечных утренних яхонтах, изумрудах и хризопразах за деревню на давно облюбованный холм за Городищенским озером напротив крепости, откуда летом любят пускаться в полет парапланеристы.
Солнышко разыгралось вовсю, паутины сверкали, даже стрекозки нет-нет прочеркивали синеву. Из Малов, от Печерского скита уже звонили к «Достойно» (там служат пораньше).
А я потихоньку карабкался да карабкался вверх, измочив ботинки росой, и читал вслух утреннее правило, будто немного оправдываясь перед Богом, что не в храме, но вот, слышишь, Господи, молюсь. А назад на Изборск нарочно не поворачивался, чтобы уж с вершины все сразу увидеть. И как наверху чуть унял сердце и повернулся, так и вспомнил, как часто в минуты восторга перед красотой вырывалось из сердца прямо сразу с пением – так летела душа: «О-о-отче на-аш…». И как ликующе выговаривалось: «Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое», потому что в эти минуты красота и желанность этого Царствия были так очевидны.
А тут я начал читать «Верую». Да нет, не то это слово – не читать стал, а оно само собой пошло говориться, словно тут прямо и рождалось, называя видимое сейчас сердцем.
«Во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли…»
Творца вот этого синего высокого неба в веселых воробьях и этой золотой земли в дальних холмах, в седых от росы полях, в тонком дыме молодых лесов, которые ведь взялись же откуда-то «среди миров, в мерцании светил» в страшной своей красоте. И крепости, раскинувшейся отсюда так вольно, с ее башнями, серебряной главой Николы за стеной, игрушечной Корсунской часовней и угадывающимися за озером Словенскими ключами тоже находилось естественное место, словно и она вся содержалась в этом «Верую» и тоже была делом Творца неба и земли.
«И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия… рожденна, несотворенна, единосущна Отцу…»
Подлинно Сына – такого же небесно всеобъемлющего, счастливо утреннего, подлинно предвечного и единосущного и тоже всегда и сейчас таинственно и явственно содержащегося в этих небесах, полях, диких яблонях, уже закипающих нежными батистовыми цветами, в речке Сходнице, сияющей зеркальцем в тяжелой оправе камышей.
Как же точны были Святые Отцы Первого Вселенского собора там, в Никее, на берегу тишайшего из озер, когда складывали слово по слову, день за днем этот «Символ», лепили его чутким слухом из своих вод и небес, из своей веры и молитвы, высокого эллинизма, горячих споров и прямых противостояний. Вот где слову возвращалось его небесное значение, его райское имя и адамова глубина.
«И вочеловечшася…»
Тянулась от Труворова креста разноцветная цепочка ранних экскурсантов, – издалека будто белье на веревочке под легким ветром. Значит, и в них вон там, и в меня здесь «вочеловечшася»? Из непостижимой высоты, из того, что до и вне истории, из неподвластной уму вечности и величия – в самую бедную малость для спасения этой малости. Из Создателя всего – в меня в мокрых ботинках и в то «белье на веревочке». Это было так близко, так горячо, страшно, радостно, тайно и совершенно ясно, что, казалось, и умереть сейчас было бы весело и просто.
«Распятаго же за ны… и воскресшего в третий день…»
Да, да, вот, наверное, почему я увидел это утро в увеличительное стекло, словно оно было первое. Это было утро воскресения! Простого сегодняшнего календарного воскресения и на минуту проступившего в нем того – единственного – «в третий день по писанием». Как будто природа вскрикнула и засмеялась над смертью, и я нечаянно услышал этот радостный смех и за вседневной красотой осеннего утра увидел свет всеобщего Воскресения. И понял, что значит «исповедую едино крещение во оставление грехов».
Ничто не загородит от безумия мира, от безнадежности и торжества потребления, кроме этого непостижимого оружия – единого крещения в живой воде длящегося творения.
Устанешь, сто раз будешь отчаиваться и стоять на пороге неверия, тысячу раз уступишь соблазнам века и искушениям ставшего религией потребления, но если при этом не поддашься змеиному шепоту хотя бы и всеобщего «я верую – я тоже нет», то непременно увидишь однажды это спасительное, укрепляющее, навек отменяющее сомнения детское утро Воскресения.
И я, почти торопясь, боясь расплескать сердце, заспешил к «аминю». Но я думаю, что если бы и не договорил «Символа» до «жизни будущего века», утро простило бы меня, потому что оно уже воскресло во мне и для меня и, может быть (Господи, прости!) и благодаря мне, этой моей и для меня самого нежданной готовности принять и увидеть родной, привычный, насквозь известный мир в мгновенном свете будущего века.
…Туристы тянулись от Городища за весело бегущей впереди собачкой, словно она вела их всех на веревочке, кружились над озером утки, ища места поукромнее, день разгорался. Уже из чьего-то окна хватил бодрый «Маяк». Век готовился диктовать Бегбедеру новые скептические страницы, но мне уже не хотелось соглашаться с ним даже и в очевидном.
Все правда, да не все Истина.
Верую, Господи, помоги моему неверию.
Писатель
Валентин КУРБАТОВ
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.