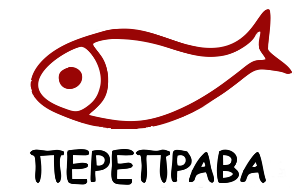1.
1.
…В мае 53-го я вкатывал велосипед через калитку, когда увидел во дворе, у крыльца, рядом с отцом, человека в темно-синем железнодорожном кителе, форменных брюках и до блеска начищенных туфлях.
Оба курили. Человек в кителе был повыше отца, заметно моложе, но точно с такими же набрякшими веками, слегка проступившими скулами, ровно очерченным, с небольшой вмятиной, подбородком и таким же ровным зачесом – слева направо – чуть тронутых сединой волос. Он рассматривал меня внимательно и серьезно, словно запоминал, как я прислоняю к забору велосипед, треплю за ухо пса по кличке Бокс, подхожу здороваться.
– Вы тут знакомьтесь, а я помогу Аське стол накрыть, – сказал отец, поднимаясь на крыльцо
– Ну, здравствуй, племянник.– Человек в кителе протянул руку, мягко сжал мою ладонь, задержав в своей, смотрел, улыбаясь. – Давненько я тебя не видел, ты уж взрослым сделался. В какой красоте вы тут живете-то! – повел он взглядом.
Вокруг – в нашем саду и у соседей за забором – клубились белой кипенью вишневые и яблоневые деревья, гудели пчелы в цветущих кронах, сияло бессарабское небо теплой голубизной над просевшими камышовыми крышами, испятнанными налетом зеленого мха, а за ними, в низине, серебрилось окутанное дрожащей дымкой петлистое русло Днестра.
– Питерку-то не забыл? Степь ковыльную? Там сейчас тоже тепло, и жаворонки поют. А на пруды да речки уток налетела тьма… Ты, говорят, кроличье хозяйство ведешь. Покажешь?
В сарае, разглядывая клетки, он одобрительно кивал, приговаривая:
– Смотри-ка, справная у тебя живность. Кукурузой кормишь? А клетки сам сколачивал? С отцом? Хорошо сделаны, по-нашему.
– У вас, что, тоже кролики были?
– У нас-то? В Глотовке? Там у Капитона Астафьевича, нашего деда, а твоего прадеда, чего только не было: дом на берегу Терешки, овцы, лошади, дощаник с неводом, земля своя.
– А отец говорил, что Капитон бедняком был.
– Бедняком? – гость усмехнулся, вздохнул сдержанно.– Да, и бедняком тоже однажды стал. В тридцатых, перед смертью, когда в колхоз всем велели вступать.
– А мой дед Афанасий почему оттуда уехал?
– Такая у него планида – в чужом краю век доживать.
И перевел разговор на другое.
– Да, красиво здесь. У нас в Глотовке и в твоей Питерке поскромнее. Но и там – своя красота. Да ты должен помнить, тебе годочков пять было, когда вы в сорок пятом с матерью в Бессарабию уехали.
Что я помнил? Широкие улицы, приземистые дома с прочными на окнах ставнями – их закрывали, когда начинались сильные степные ветра; посиделки у ворот в тихие летние вечера с тлеющими в горшках кизяками – их дым отгонял комаров; разнообразие живности – в каждом дворе коровы, овцы, гуси, козы, а у кого-то и верблюды; пересыхающую летом речку Малый Узень (он превращался в цепочку бочажков, кишащих рыбой) да еще – непаханую ковыльную степь.
Здесь, в Молдавии, в правобережном селе Олонешты другая была картина: кудрявые виноградники на холмистых склонах, в широкой речной пойме – дикие сады и камышовые дебри (откуда весенними вечерами выкатывался и звучал ночь напролет пронзительно стрекочущий лягушачий хор), а за Днестром, в синей равнинной дымке – огни украинских сел.
Позвали нас в дом. Стол был накрыт в большой комнате. Пахло привезенным из Саратова балыком, нарезанным коричневато-золотистыми тонкими ломтиками. Завели патефон, но тут же и захлопнули – мешал разговаривать. Два брата, с одинаковой сединой на висках, сидели друг против друга. Отец – в клетчатой рубашке с распахнутым воротом, чуб взъерошен, глаза блестят. Дядя Володя – уже без кителя, в празднично-белой, жестко накрахмаленной сорочке с приспущенным синим галстуком, улыбкой светится. Оба то пускались в воспоминания, то спорили по пустякам, то пели. Мама, в цветастой кофточке, сновала из кухни в комнату, приносила тарелки с пахучей мамалыгой и жареными баклажанами, пододвигая их гостю.
Но от еды без конца отвлекались – вспоминали родственников, имена которых я слышал впервые. Оказалось – где их у нас только нет; если по гостям пуститься, всю страну объездишь. Отец время от времени, я заметил, осаживал брата, косясь на меня, – мол, подробности потом, не загружай пионерскую голову лишней информацией. Догадывался я – скрывают что-то. Что?
Уже взрослым узнал я ту опасную тайну, что берегли от меня родители.
2.
…А был мой прадед Капитон Астафьевич Гамаюнов в селе Глотовка в чине старосты, жил в большом бревенчатом доме, при нем – две коровы, отара овец, конюшня. Словом – богач. Старший сын Капитона – Афанасий (мой дед), обстоятельный и многодетный, пошел «по церковной стезе». Младший Михаил (дед двоюродный) служил в Петербурге, в лейб-гвардии, воевал в Первую германскую, но потом волею судеб тоже стал священнослужителем.
В мирные годы, съезжаясь в Глотовке, семейство Гамаюновых будоражило все село. Вначале Капитоновы сыновья – Афанасий и Михаил, сопровождаемые родней и соседями, поднимались по дороге, круто вьющейся меж верблюжьих колючек, в гору, к церкви. Оттуда видны были рассыпанные внизу крепкие, обшитые тесом избы, змеисто сверкавшая в ивовых кустах Терешка (приток Волги), а за ней – просторный луг и помещичья усадьба на взгорье, затененная старыми липами.
Церковь по случаю приезда молодых Гамаюновых отпирал священник, отец Серафим (Гамаюнов), наш дальний родственник (он-то и пристрастил басистого Афанасия к церковной службе, сначала – псаломщиком, потом – дьячком, надоумив двигаться по этой стезе дальше). Там сыновья Капитона пели псалмы для набежавших в храм односельчан («Голосища у обоих такие мощные – свечи тухли!» – вспоминал дядя Володя), но то была лишь распевка. Затем все спускались в село, к дому Капитона Астафьевича, где пелось другое – «Вечерний звон», «Скакал казак через долину», «Ревела буря…», и те, кто не поместился за накрытым в доме столом, сидели на бревнах, под распахнутыми окнами – слушали.
…Да разве можно было пионеру пятидесятых (полгода назад сочинявшему недоуменное письмо Сталину о нехватке в Олонештах хлеба, гвоздей и мыла – везде есть, судя по газетам, а здесь нет!) рассказать, не надорвав его психики, о том, как двоюродный его дед Михаил Капитонович, рослый красавец, капитан лейб-гвардии, оказавшийся перед революцией в охране императрицы-матери, в декабре 17-го вдруг появился в отцовском доме с отпоротыми погонами. Как потом он по совету старшего брата Афанасия пошел служить в соседнюю церковь, а затем был рукоположен в священный сан. И три года спустя, услышав в толпе крикливого агитатора, призывавшего вступать в коммуну, неосторожно спросил, уравняют ли там, в коммуне, лентяев с трудолюбивыми. А наутро агитатора обнаружили убитым, виновников не нашли, но схватили батюшку Михаила, избив до крови «за подстрекательство», заперли в сарай, откуда он ночью, выломав подгнившие доски, бежал.
Гэпэушникам, не нашедшим его ни в Глотовке, у отца Капитона Астафьевича, ни в селе Синодском, у брата, Афанасий Капитонович, сердито зажав бороду в кулак, напомнил известную фразу из Священного Писания: «Не сторож я брату моему». Ему это аукнулось в конце 20-х, когда его церковь со сбитым крестом была превращена в склад сельскохозяйственного инвентаря, а сам он (грамотных не хватало) пошел служить в сельсовет писарем, надеясь: вблизи власти его, многодетного отца (четыре дочери и два сына), не тронут.
Тронули.
Пришла команда из волости об очередной «зачистке», Афанасий Гамаюнов оказался в списках. И бывший его прихожанин, теперь сельсоветовский охранник, Сенька Рябой, вооруженный старенькой винтовкой, болтавшейся у него за спиной на веревочной петле, повел его за неимением транспорта пешком на волжскую пристань – сдавать конвою. А по дороге, после длинного разговора, отпустил, объяснив начальству, что будто стрелял вслед беглецу да промахнулся. В 30-х это ему припомнили: в очередную кампанию борьбы с «врагами народа» Сенька Рябой попал в списки вредителей и сгинул в лагерях.
3.
Да разве можно было в те годы, не рискуя семейным благополучием, рассказать, как рассыпалась по стране большая семья Гамаюновых в поисках безопасного угла, как, прячась за чужими фамилиями, таила свое прошлое от цепких глаз и чутких ушей служителей власти!.. Правоверному пионеру (коим я был) не под силу носить в себе такую тайну, считали родители. Проговорится сгоряча, искалечит судьбу и себе, и другим. Но хоть что-то же про свою семью он знать должен?..
– Тебе бы на Терешку съездить, – сказал тогда за столом дядя Володя. – Дом, конечно, не уцелел, а камень остался… Ты помнишь тот камень, Николай?
– Как не помнить! – отец звякнул графином, разливая вино. – Его наш прадед Астафий с горы скатил. Нужно было угол кухни укрепить, а то Терешка, разливаясь, подмывала.
– А как мы с Капитоном в половодье за сазанами ходили! – Владимир Афанасьевич поднял стакан, но тут же и отставил, вспоминая. – Плывем, бывало, на лодке через лесную поляну, глядь – трава шевелится. Накрываем корзиной без дна, а там сазан в полпуда весом!
Братья, наконец, выпили. Гость кивнул хозяйке.
– Ты ведь, Аська, в прежние времена на гитаре играла. Помню, мама твоя Евдокия Ивановна пельмешек нам наготовит, мы их умнем, и ты за гитару: «В глубокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле…» Так, да?
– Сейчас не играет, вон инструмент на шкафу пылится, – сердито пожаловался отец. – Гости придут, она на них – букой. Всех распугала.
– Это, извини, брат, твоя недоработка… Ты, Анастасия, за этим следи, чтоб вы оба не ломались – не гнулись, мало ли какие возникают обстоятельства!.. А без песен, что за жизнь? Вот мы сейчас возьмем да и споем. Не забыл, Коля, нашу любимую?
Владимир Афанасьевич ослабил галстук, опустив его ниже, и, чуть откинувшись, легонько, словно пробуя мотив на ощупь, мягким баритоном то ли проговорил, то ли пропел совсем незнакомые, звучащие из какой-то другой далекой жизни, слова:
«Не осенний мелкий дождик
Брызжет-брызжет сквозь туман…»
Отец, подавшись вперед, к брату, навалился грудью на стол и, вздохнув, подхватил негромко:
«Слезы льет наш добрый молодец
На свой бархатный кафтан…»
И тут же, перебив самого себя, махнул рукой:
– Ну ее, со слезами… Давай-ка нашу, лихую: «Не разбужу ли песней удалою…»
– «Роскошный сон красавицы младой», – поддержал Владимир Афанасьевич.
Но и эту песню они не допели, вспоминая другие, торопясь услышать полузабытые слова, возвращая ими ушедшее время, а с ним – и чувство утраченного дома, того самого дома, от которого, как они предполагали, остался на берегу обмелевшей Терешки лишь прадедов камень.
– Нет, не то, не то, – опять поморщился отец, досадливо ероша побитый сединой чуб, – может, сразу нашу, козырную.
И они тихо, затаенно, будто подкрадываясь, запели, глядя глаза в глаза, вторя друг другу:
«Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он…
А потом все увереннее и громче – об отчем доме, о невозвратимых днях, о невольных странствиях и тоске по оседлой жизни. Их лица помолодели от подступившей бледности, в глазах стояли непролившиеся слезы, голоса звучали чисто и крепко. Взлохмаченный отец дирижировал вилкой, пока вдруг не уронил ее, прикрыв лицо рукой.
Плечи его тряслись. Дядя Володя вскочил, рванув с себя галстук, отбросил его и, перегнувшись к брату через стол, обхватил его голову, целуя ее, торопливо бормотал:
– Ну, будет-будет, Коля, все еще наладится. Только бы продержаться чуток. Только бы продержаться.
4.
Отец учительствовал в сельских (русскоязычных) школах юга Молдавии. Нигде мы надолго не задерживались – через год-два он сообщал, что нашел другое место, живописнее этого. Мы грузили домашний скарб на полуторку и переезжали.
И однажды оказались на правом берегу Днестра, в райцентровском селе Олонешты (там отец, учитель географии, работал завучем русской школы), на крутом склоне, с которого открывались заречные дали, подернутые синей дымкой. (Про них дядя Володя сказал: «Почти как у нас, на Терешке».)
Все эти годы приходили от родни из разных мест письма, отец их от меня прятал, а одно как-то (еще до приезда дяди Володи) забыл на комоде, возле патефона, распечатанным.
Меня поразил почерк на конверте – каллиграфически правильный, с затейливыми завитушками. Взял рассмотреть поближе – выпала фотография: лицо отцовское, только очень пожилое, окладистая борода, стекающая с широкого подбородка двумя потоками вразлет, старорежимная прическа – длинные волосы разделены посередине ровным пробором. Спрашиваю: кто?
– Дед твой, Афанасий, – нехотя отвечает отец. И на все мои приставания – почему на обратном адресе другая фамилия, и ни мы к нему не едем, ни он к нам – оборвал сердито: – Пока не время.
А после его застольных песен с братом и хмельных слез стал мучить меня недоуменный вопрос: ну раз уж отец так тоскует по родине, почему бы нам всем туда не вернуться?..
Все равно мотаемся из села в село, нигде не укореняясь.
И вот миновала первая «оттепель» середины 50-х, затем вторая – в 60-х, когда, казалось бы, обо всем можно рассказывать без опаски. Что помешало? Инерция страха? Родительские неурядицы, разорвавшие семейные узы?
Наконец, в третью «оттепель» в конце 80-х, когда изменился не только уклад жизни, но и карта страны, а отец с матерью унесли в небытие недосказанные свои обиды и напутствия, открылась мне драма отцовской семьи.
5.
Приезжаю в Саратов. Иду к дяде Володе – навестить.
Он совсем стар – девятый десяток на исходе, голова в серебристой седине, узловатые руки в пигментных пятнах. В сумрачном углу комнаты, за шкафом, согнав кота с сундука, покрытого выцветшим ковриком, долго возится с замком, открывает, шуршит, вытаскивает, наконец, потертый альбом с неясным рисунком на обложке. Из него высыпаются на пол пожелтевшие снимки.
Владимир Афанасьевич, упав на колени, торопливо сгребает их – руки дрожат, глаза слезятся:
– Все, что осталось…
На снимках многодетная семья Гамаюновых.
– Вот он я, – показывает на трехлетнего мальчишку дядя Володя, – вот отец твой, он на четыре года старше, а сестры наши тут уже почти невесты, у отца Афанасия в хоре пели…
В этой же пачке снимок, обрамленный вензелями, наклеен на картон; в его центре сидит бородатый и насупленный дед Капитон в тулупе, внук Колька к его колену прислонился, а за спиной Капитона высится его младший сын красавец Михаил, в картузе и куртке. Все у него пока впереди – война, лейб-гвардия, охранявшая императрицу-мать, возвращение к отцу в Глотовку и служба в церкви, закончившаяся арестом и побегом.
Спрашиваю о побеге. Владимир Афанасьевич медленно сосредотачивается, скрипит стулом, перебирая на столе ворох фотокарточек, словно бы оживших и готовых выпорхнуть из его неустойчивых рук.
Рассказывает: после того как агитатора- крикуна нашли убитым, а Михаила заперли в сарай, он ночью, сумев развязаться, бежал, и родня спрятала его в Глотовке. Он дал знать семье – жене с двумя дочками, и, собравшись, они тайком уехали – подались по Волге на юг, к Каспию, осели в пригороде Баку, под другой фамилией.
Но прожил Михаил после побега недолго.
– Гэпэушники вычислили?
– Он им сам повод дал. Любил петь до беспамятства, это его и погубило.
…Работал Михаил в рыболовецкой артели – вначале рыбу разделывал, потом, когда узнали, что грамотный, бухгалтерию артельную вел. Зазвали его однажды в поселковый клуб, на вечер самодеятельности, ее тогда власти поощряли. Не удержался он – вышел, спел «Вечерний звон», песню, ставшую к тому времени белогвардейским гимном.
Тут будто всех заклинило – повтори да повтори! Трижды повторял Михаил, зал подпевал, кто-то слезы рукавом утирал – там, в той артели работали беженцы из центральных российских областей.
А через день раскрыл он местную газету, видит: заметка о талантливом певце из народа – про него. Минул еще день, и в артели появился шустрый малый с мандатом ОГПУ – допытывался у всех, и у Михаила Капитоновича в том числе, из каких он мест, да когда и почему приехал.
– Уезжать надо, – сказал после этого жене Михаил.
Начали спешно укладываться. Тут у него стало давить в левой стороне груди. Прилег отдышаться и не встал. Сердце не выдержало.
6.
Со старшим братом судьба обошлась милосерднее.
Когда Сенька Рябой, бывший его прихожанин, вел Афанасия Капитоновича по пыльной дороге на пристань, в спецкомендатуру, возник у них такой разговор.
– Сень, а я ведь тебя крестил.
– Знаю, отец Афанасий, – виновато моргал конвоир, – да ведь велено мне.
Шли дальше, но Афанасий не отступался:
– Я и сына твоего крестил.
– Помню, отец Афанасий, только воли моей нет – тебя отпустить.
Присели у дороги отдохнуть.
И тут совершил Афанасий (всю жизнь потом вспоминавший об этом) самое настоящее преступление: снял с пальца обручальное кольцо и отдал Сеньке, все равно, мол, в комендатуре отберут. Тут Сенька говорит:
– Ладно, спрячься куда-нибудь. Скажу – убежал, а я стрельнул, да промахнулся.
С тем и расстались.
Жене Анне о своем спасении он дал знать уже из Саратова, где все его дочери, вышедшие к тому времени замуж, обретались под другими фамилиями. Анна с младшим Володькой (сын Николай к тому времени уже пробовал себя в Питерке в роли учителя начальных классов) спешно к нему приехала. И оставив младшего у его сестер, пустились они вслед за Михаилом вниз по Волге, к Каспию, поселились в Дербенте, где Афанасий Капитонович прожил всю свою остальную длинную жизнь. Работал конюхом в пригородном совхозе, затем – кладовщиком, счетоводом, садовником. И все это время исполнял должность церковного старосты. А еще пел в церковном хоре. До последнего своего дня.
– Помнишь, – говорю дяде Володе, – ты к нам в Молдавию приезжал, вы с отцом старинные песни пели. «Вечерний звон» знаю, а остальные – что за песни? Никогда больше не слышал…
Стал он, путаясь, вспоминать слова и говорит вдруг:
– Я тебе их лучше спою, так они быстрее вспомнятся.
И запел.
Слабый, надтреснутый голос его звучал как бы издалека, прорываясь сквозь прошедшие годы, сквозь весь грохочущий, кровоточащий двадцатый век. И я, включив диктофон, молил Бога, чтоб не сели батарейки, ведь, может быть, я последний, кто слышит, как поет эти забытые песни человек, для которого всю его жизнь они были неумирающей душевной потребностью.
Он спел «Осенний мелкий дождик», «Не разбужу ли песней удалою», а «Вечерний звон» даже дважды, потому что, оказывается, в Саратове – объяснил мне мой седовласый родич – исполняют эту песню не так, как в Москве.
И, наконец, спрашиваю о Капитоне.
– Упрямый был дед, – жалуется на него Владимир Афанасьевич, осуждающе качая серебристой головой. – Сколько его с бабкой ни звали жить – и в Саратов, и в Дербент, и в другие места, так и не уехал из Глотовки. Все твердил, мол, дома умирать легче.
Вздохнул прерывисто.
– Теперь-то я понимаю, дома действительно легче. – И добавил: – Ты съезди к нему. Если стариков встретишь, они должны помнить, его там все Капитой звали. Хотя вряд ли – вымерли или разъехались. Ну, хоть на кладбище зайдешь, навестишь, там у нас целый угол гамаюновский – уж и не разобрать, кто где. Когда в тридцатых всех голод накрыл, хоронили там друг друга кое-как, лишь бы земле предать.
7.
В Глотовку повез меня саратовский приятель на своем стареньком «Москвиче», дорогу знал плохо, и мы, ныряя по разбитым проселкам, долго не могли найти нужный поворот.
Наконец, свернув у прозрачной лесополосы (за ней вдалеке мелькнула темно-зеленым гребнем неожиданная здесь сосновая крепь), миновали заросший бурьяном искореженный остов ржавеющего комбайна и увидели впереди обрыв, край земли, за которым – знойное марево.
 А на самом краешке обрыва – церковь без креста, с дырявым куполом и облупленной колокольней.
А на самом краешке обрыва – церковь без креста, с дырявым куполом и облупленной колокольней.
Внизу – цепочки домов с огородами, сияющая излучина Терешки, бегущей к Волге, а дальше – синие дали с набегающими пышно-белыми облаками… Почти как и за тысячу верст отсюда, подумал я, в приднестровском селе Олонешты, куда отец, гонимый ветром истории, однажды привез нас с матерью и скарбом на полуторке, сказав, что живописнее места быть не может.
Теперь я понял почему: днестровская пойма там была почти копией того, что открылось мне здесь; отец метался по южным селам Молдавии в поисках привычного образа утраченной родины.
Пошел я к церкви. Сухая ломкая полынь хрустела под ногами. Шагнул в дверной проем. Сумрачно. Прохладно. В углу – шевеление. Всмотрелся – овцы от жары прячутся.
Штукатурка с церковных сводов почти вся осыпалась, но там, где удержалась, сохранила роспись: вон рука, в ней – кусок свитка со старославянской вязью. Вот фрагмент золотистой ризы в крестах. А вон там, среди дождевых пятен, жгуче темнеет глаз, сияет шип тернового венца.
Спуск к реке извилист и крут. Там, в низине, у самой излуки – несколько обшитых тесом и тесом же крытых ветхих домов, кажущихся необитаемыми. Это все, что осталось от Глотовки.
Чуть выше по течению, в полукилометре, приезжими поселенцами выстроены новые дома, под шифером, издалека белеющим, и названо село по-новому – Подгорное. А здесь осталась лишь одна короткая и безлюдная улица.
На всякий случай вхожу на крыльцо ближнего дома (ни заборов здесь, ни ворот). Стучусь. Слышу за дверью какое-то шевеление. Открываю и вижу: бредет навстречу ветхий старичок, серебристая щетина на впалых щеках, подслеповато щурится.
Интересуюсь, знал ли он Капитона.
– Да кто ж Капиту не знал! – неожиданно звонким голоском откликается старик. – Он же у нас сельским старостой был. Вон там, на бугру, за церковью сосны видел? Это он насадил, всех нас гонял на посадки, чтоб песчаный бугор укрепить. «Капитонов бор» тот сосняк называется. А дом его напротив нашего стоял, вот здесь, на берегу, я мальчишкой к нему бегал песни слушать, сыновья его – Афанасий и Михаил – больно голосистыми уродились.
Слушаю, переживая ощущение чуда: словно скрипнула ось времени и, остановившись, пошла в обратную сторону. На восемьдесят лет назад! Моему собеседнику и однофамильцу – деду Анатолию Гамаюнову – в те времена было то ли пять, то ли семь лет, точно он не знает. Но хорошо помнит: приезжают к Капите сыновья, и все село тянется в церковь – слушать псалмы. Потом пение продолжалось в Капитоновом доме, за праздничным столом. Кто не помещался, стояли на улице, у распахнутых окон. Что пели? «Степь да степь», «Скакал казак через долину» – «все нашенское». Капитон знал их все, он-то и пристрастил сыновей к песням.
– Разворотливый был мужик, – рассказывает дед Анатолий. – За все брался: кожи выделывал, колеса мастерил, лошадей разводил. На барже зерно по реке сплавлял, да не рассчитал чегой-то, разорился, снова колесником стал. Все к нему – у него колеса крепче. Денег накопил, сынам образование духовное дал, они в церквях окрестных служили.
Показал мне Анатолий Гамаюнов взгорок, заросший репейником, где стоял дом Капитона, выходивший углом к Терешке.
– Раскатали его по бревнышку в 30-х, когда перемерли все твои да разъехались, – объясняет дед.
Иду туда, в заросли репейника. Вот здесь, на взгорке, стоял наш пятистенок. Из его окон сквозь ивняк видно было, как крутит речка водовороты. А ведь (вспоминаю я рассказы дяди Володи) почти вся эта приречная улица, с десяток семей, была заселена Гамаюновыми, родственными узами связанными! Настолько давними, что запутались считать, кто кому кем доводится. И жили зажиточно, скота много, зерновые запасы у всех; в 30-х, когда после неурожая и коллективизации по Поволжью прокатился голод, наверняка выжили бы, если бы не безжалостные конфискации. По селам продотряды метлой выметали все – до последнего зернышка. Народ из Глотовки – кто на погост, кто в город; дома оставались пустые, с мотавшимися на ветру ставнями.
Спускаюсь ближе к Терешке. И – вижу торчащую из сухой травы сизую макушку мощного камня. Неужели того самого, сейчас ушедшего в землю, а когда-то подпиравшего угол нашей кухни?!
Тут-то я и спохватываюсь: если дом раскатали в 30-х, то даже век еще не прошел! И та гражданская распря была совсем недавно. Да, может быть, она еще длится в нас, не осознающих этого.
Велел мне дед Анатолий, когда к церкви на кладбище приду, свернуть в левый угол.
Прихожу. Сворачиваю. Петляю меж оград и крестов. Останавливаюсь в том самом дальнем углу. И – зарябило в глазах от собственной фамилии. Здесь, под стоящими и под упавшими уже крестами, помеченными тридцатыми годами, с полустершимися именами, под холмиками без крестов и надгробий лежала почти вся вымершая улица Гамаюновых.
Где-то здесь навсегда остались прадед Капитон и прабабка Анисья, упрямо не желавшие вслед за сыновьями и внуками податься в чужие края.
8.
… Теперь я знаю, почему отец сюда не вернулся: он бы здесь изошел слезами, вспоминая все то, что сотворили с его многолюдной семьей, разметанной в 20–30-х годах прошлого века по окраинам нашей страны.
А кассета с записью песен, спетых мне Владимиром Афанасьевичем незадолго до своей кончины, лежит у меня в ящике стола. Недавно я ее снова слушал. Странно, но пока она там, в столе, лежала, голос Владимира Афанасьевича – показалось мне – окреп. Он звучит теперь увереннее и звонче.
Игорь ГАМАЮНОВ,
Саратов–Москва
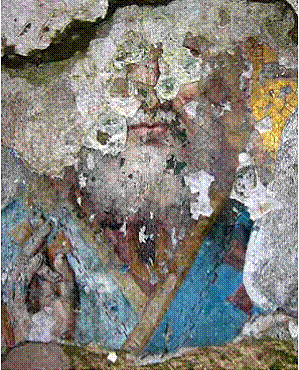 Фотография 2009 года. Фрагмент уцелевшей росписи храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Соснино Волоколамского района Московской области, возведенного в начале XIX века после победы над Наполеоном. На лике святителя видны следы от колющих ударов. Как же много еще таких храмов скорбно стоит по всей России!.. Им и на нынешнюю Пасху суждено пребывать в пустыне человеческого равнодушия и забвения.
Фотография 2009 года. Фрагмент уцелевшей росписи храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Соснино Волоколамского района Московской области, возведенного в начале XIX века после победы над Наполеоном. На лике святителя видны следы от колющих ударов. Как же много еще таких храмов скорбно стоит по всей России!.. Им и на нынешнюю Пасху суждено пребывать в пустыне человеческого равнодушия и забвения.
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.