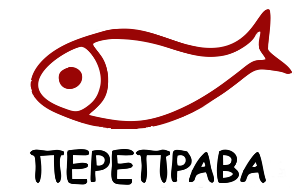Каждый раз, когда вспоминаю о нем, а с годами это происходит все чаще, сердце наполняется тихой радостью и щемящей грустью. А все оттого, что отчетливо осознаешь – такого удивительного человека в твоей жизни, наверное, уже не будет. Есть люди, о которых принято говорить: человек-праздник. Наверняка Витя и был таковым, только мы тогда этого попросту не понимали.
Он был единственным ребенком в семье. Да и то сказать, семья эта состояла, помимо Вити, еще из его мамы, которую никто из нас толком и не знал. То ли оттого, что в школе нашей она так ни разу и не появилась, не давал ее сын для этого повода. А может, и оттого, что работала уборщицей, и, наверное, не хотела смущать парня. Но истины ради скажу, что и этого не припоминаю. В полном соответствии со стилем жизни прирожденных южан мы по многу раз перебывали в гостях друг у дружки, и только у Вити не были ни разу. Как-то само собой сложилось так, что к Вите мы не ходили. Да он и не звал. Вот и все. Сейчас об этом трудно судить, но хочется думать, что с нашей стороны это было неким проявлением столь несвойственной тогдашнему возрасту деликатности. Припоминаю, что как-то, окликивая его с улицы, я заметил в глубине крошечного бакинского дворика мелькнувшую фигуру немолодой женщины в синем сатиновом халате. «Мам, не волнуйся, я скоро!» – бросил ей Витя, и она улыбнулась ему хорошей кроткой улыбкой. Только и всего.
Жили они в трех минутах ходьбы от Центрального рынка, что на Искровской улице, который местные жители по привычке зовут «новым», хотя он давным-давно не таков, в старом районе, названия которого переводить не буду, слишком уж оно неблагозвучно. С незапамятных времен здесь была грандиозная городская помойка, от нее здешний район и получил свое прилипчивое наименование. Позже ее перенесли за город, и в середине шестидесятых здесь стали понемногу возводиться жилые кооперативные дома. Улица же была названа так из-за подпольной типографии «Нина», оборудованной революционерами в подвале обычной квартиры, где они и печатали свою большевистскую «Искру». Вспоминаю даже, что наш класс шефствовал над этой бывшей типографией, превращенной в музей, но в чем конкретно заключалось это самое шефство, хоть убейте, так и не мог понять ни тогда, ни сейчас.
Вообще у этой части полуторамиллионного города была недобрая слава разбойного, которая упрочилась за ним в послевоенные годы. Для наших же тогдашних ушей она звучала как сладостная музыка. Выходцы каких только наций и племен не населяли эти одноэтажные домики и тесные дворы, на каких только языках и наречиях здесь не говорили, чем только здесь не промышляли. В одном из этих двориков родился и вырос русский мальчик Витя Потапов, с которым мне довелось проучиться в одном классе четыре последних года и память о котором живет во мне по сей день, хотя со дня нашей последней мимолетной встречи в метро в родном городе прошло не одно десятилетие. Ныне и живу в другом городе, и не только город, но и страна, да и сам я изменились до неузнаваемости, а вот надо же…
В том, что Витя Потапов родился и вырос именно в этом, а не в ином районе этого замечательного приморского города, вы могли тогда легко удостовериться, только лишь поздоровавшись с ним, придя утром в школу. В ответ на вас обрушивался блестящий каскад анекдотов, всевозможных приветствий, шуток и присловий на многих языках тогдашнего многонационального города нашего детства. Причем это непередаваемое представление неизменно сопровождалось еще и показом многих и многих реальных людей, излюбленных персонажей Витькиных рассказов, населявших окрестные улицы и дворы, со всеми особенностями их характеров, произношения, походки, жестов, так мастерски им подмеченными и изображенными. И в каком бы мрачном настроении вы ни пришли сегодня в школу, его после встречи с Витей как не бывало. Азербайджанская и русская речь в его устах живо перекликалась с протяжным наречием горских евреев, характерным говором местных армян. Как рассказчик и пародист Витя был воистину неподражаем.
Не знаю, проводятся ли в нынешних школах такие подсчеты, но в наше время это было делом обычным. Примерно раз в год заходили в класс преподаватели, и начиналось: «Кто азербайджанцы, поднимите руки… а теперь русские…». Так вот, в одно из этих посещений, когда к нам, уже десятиклассникам, пожаловала аж сама директор и все уже проголосовали, как надо, не сошлось общее число из-за одного человека. Оказалось, это Вити нет ни в одном из списков. Его, естественно, подымают, спрашивают, почему не поднял в нужный момент руки? «Понимаете, – отвечает тот с самым серьезным видом, – затрудняюсь, не знаю, к кому себя отнести. Я, конечно, русский, но с еврейским уклоном и азербайджанским направлением».
Мой покойный отец, так любивший и ценивший хорошую шутку, часто с порога спрашивал меня, едва только заброшу портфель: «Ну что там сегодня ваш Витя Потапов?»
Но если бы все ограничивалось только его недюжинными артистическими способностями. Вспомним, редко какой класс обходится без собственного балагура и острослова, эдакого Василия Тёркина местного разлива. С Витей же был совсем другой случай, никогда не был он записным остряком, ни разу не услышали мы от него ни пошлости, ни сальности, на которые сами тогда нередко были горазды. Все было иного уровня и качества. То же, что происходило позже, когда нас, вдоволь насмеявшихся, загоняли наконец в класс, было как раз не менее интереснее.
Не знаю, был ли хоть один школьный предмет, где бы Витя не блистал. Вот-вот, именно блистал, а не просто хорошо знал его. Поясню, мне доводилось общаться с несколькими людьми, окончившими школу с золотой медалью. Признаюсь, мне никогда не было с ними по-настоящему интересно. Все, что выходило за рамки школьной программы, зачастую оставалось для этой касты запретным плодом, что тоже вполне объяснимо. Как говорится, шаг в сторону… что же касается Витьки, то здесь все было как раз наоборот. Именно от него многие из нас впервые услышали имена Ахматовой, Пастернака, Булгакова, и не только имена, но и стихи, которые он читал не «с выражением», как часто того требовали в школе, а по-своему, как-то по-особенному хорошо. Но и о тех авторах, кто входил в школьную программу, он знал такое, что оставалось только диву даваться, – где и когда такое вычитал. Но более всего покоряло то отношение, которое он испытывал к тем же Пушкину или Лермонтову, которых любил необычайно и знал чуть ли не наизусть. К немногим из нас эта любовь пришла гораздо позже, для него же Пушкин-лицеист был мальчишкой из соседнего класса: живым, талантливым, лишенным какого бы то ни было хрестоматийного лоска. Абсолютно живым! Каким неподдельным был этот мгновенный налет скорби всякий раз, когда речь заходила об авторе «Белеет парус одинокий…». И этот восторг, когда заводил речь о русской истории, своих любимых Денисе Давыдове, Александре Невском и Александре Македонском... Несколькими годами позже мне довелось еще раз испытать подобное, учась в педагогическом институте. Одна всеми любимая пожилая преподавательница плакала всякий раз, когда рассказывала аудитории о дуэли Пушкина с Дантесом. Так соболезнуют лишь об очень близких дорогих людях, безвременно ушедших. У нас так не получалось.
Главное, что разговоры эти возникали не как специальные беседы, куда там. Как и все мы тогда, он был изрядным шалопаем. Все чаще на переменках, по дороге домой или в кино, в раздевалке перед уроком физкультуры.
Но если у вас сложились мнение, что Витька был завзятый гуманитарий, то тут вы глубоко ошибаетесь. Такое расхожее понятие, как любимые предметы, по отношению к Вите вообще теряло всякий смысл. И именно по той простой причине, что ему одинаково, с какой-то моцартовской изящной легкостью, давалось практически все. На уроках математики и физики его уникальные способности проявлялись с неменьшим блеском, нежели на уроках географии или истории. А о своем кумире Леонардо да Винчи он мог вообще говорить без устали. И не только говорить, но и рисовать при этом, графически иллюстрируя по ходу свое неповторимое по живости и блеску повествование.
Впрочем, как у великого воина античности Ахиллеса, была и у Вити Потапова своя уязвимая пята, а именно – грамматика русского языка, точнее, грамотность как таковая. Да-да, Витя, тот самый Витя, который перечел великое множество томов самой изысканной литературы, который, шутя – иного слова не подберу – писал хорошие, не по возрасту глубокие стихи, этот самый Витя страдал почти полным отсутствием грамотности. Как любила говаривать моя покойная бабушка: «У каждой красавицы свой изъян». А потому на этих контрольных он любил подсаживаться ко мне и плотно списывать. Вот и сейчас перед глазами эта картина: на дворе дивная весна семидесятого года, в огромной столовой нашей современной типовой школы мы, десятиклассники, сосредоточенно пишем выпускное сочинение по литературе. И вдруг над самым ухом жаркий Витин шепот: «Слушай, а колодец пишется через «а» или через «о»?»
Но если бы вы видели ту галерею иллюстраций к поэме М. Горького «Песня о Соколе», которую Витя исполнил живописью и которая прославила нашу школу, как и литературный альманах, который он сотворил вместе с моим другом Фаиком Бабаевым, вы бы с легким сердцем простили ему этот его грех.
Но именно он, как это случается порой, делал особенно очевидными все его неоспоримые достоинства. Если б вы только могли наблюдать его дуэли, да-да, именно дуэли на уроках физики с Наумом Исааковичем, когда тот не мог скрыть своего изумления пред дерзостью этого мальчишки (которого, впрочем, уважал), не раз и не два ставившего его в тупик перед всем классом. У нашего физика аж к потолку вздымались его густые брежневские брови! За этим дуэтом, выяснявшим что-то свое, понятное лишь им двоим, о второй и третьей космических скоростях, с восторгом (или, как сказали бы сейчас, кайфом) следил весь класс. Похожие чувства испытывают, наверное, нынешние подростки, просматривая очередной фильм о «звездных войнах».
Что же касается пари, которое он при всем классе заключил с молоденькой математичкой Эллой Михайловной, недавно пришедшей работать в нашу школу, то это вообще отдельная история. Представьте, на уроке геометрии Витя просится к доске и артистично, как это мог делать только он один, объявляет, что он может посредством нескольких теорем доказать, что – тут внимание! – все треугольники равнобедренные. Чушь, скажете вы, и будете правы. Но ведь налицо формальные доказательства. Та и краснеет, и бледнеет, и в лицо ему: «Ты понимаешь, Потапов, что этого быть не может вообще?!» – «Понимаю, – кротко отвечает Витя, – только вы докажите обратное». Она ведь, когда пришла к нам на первый урок, не преминула, как бы между прочим, известить класс о том, что окончила школу с серебряной медалью, а институт с красным дипломом. Не надо было бы ей так… Короче, Витя при всех, так сказать, публично дал ей две недели на опровержение себя самого. Если, говорит, не докажите обратного, придется вам сдаться. Такая вот история.
Проходит две недели. Элла Михайловна все это время на занятия к нам идет как на эшафот. Ну что, пришлось сдаться. Оказывается, этот сукин сын (как наверняка сказал бы о нем его любимый Александр Сергеевич), где-то, в какой-то математической книге вычитал этот казус, который, если мне не изменяет память, заключается в том, что каждая из приведенных им теорем права в отдельности, вместе же их использовать нельзя. И вот этого-то исключения Элла Михайловна не знала. А перед глазами и сейчас, как она, раскрасневшаяся от смущения и досады и от этого еще более похорошевшая, остервенело чертит и чертит на доске разные треугольники, стуча в них мелом и чуть не срываясь на истерику: «Видишь, видишь, они все разные!…» А жестокий Потапов, в позе римского патриция взирая на эту возню и трескотню, со снисходительной улыбкой на устах твердит негромко: «А вы докажите, Элла Михайловна, докажите…»
Как он занимался – тоже было загадкой, да и некому было его заставлять, а без этого момента многие из нас добросовестного учения просто не мыслили. У некоторых в ту пору появились репетиторы, но, во-первых, для Вити эта роскошь была недоступна, а во-вторых, и это главное, – ему самому впору было натаскивать нерадивых школяров. В те годы суббота была общим рабочим и учебным днем по стране. Так вот, Витя часто пропускал школу именно по субботам. Ему за это слабо выговаривали, но дальше этого дело не заходило, тоже понятно почему, дай Бог каждому такую успеваемость.
Тайна Витькиных суббот приоткрылась для меня совершенно неожиданно, и было это связано с очередным моим страстным увлечением. В ту пору я всерьез «заболел» аквариумными рыбками и никак не мог дождаться воскресного дня, чтобы отправиться на Центральный городской рынок, в одной из галерей которого нашли тогда приют любители домашней живности. В зоомагазине и выбор был беднее, да и рыбки, купленные там, не отличались отменным здоровьем. Так вот, прикупив в одно из воскресений нескольких скалярий, я отправился по совету продавца на поиски живого корма. И вот тут-то я услышал, а следом и увидел Витю. Он стоял за небольшим изящным самодельным прилавком из голубого пластика, на котором аккуратными живыми кружочками извивался трубочник, и зазывал покупателей. Но даже это он, конечно же, делал по-своему, по-потаповски. Вспоминаю свой восторг, в котором восхищение, как его остроумием, так и смелостью. А все потому, что, обращаясь к потенциальным покупателям, Витя громко, встав в классическую позу известных памятников вождю мирового пролетариата, и указуя протянутой ладонью в направлении товара, восклицал: «Живее всех живых!». Что и говорить, товар шел ходко, хотя нет-нет и слышалось от иного покупателя: «Посадят тебя, парень, точно посадят!» И ведь было это не просто ответом на шутку, шутливого в этом предостережении было как раз менее всего. Теперешним парням и девушкам этого, слава Богу, не понять, но строки из хрестоматийной поэмы Владимира Маяковского «Ленин», обращенные непосредственно к нему и которыми были буквально обклеены улицы и площади, дома и школы, магазины и больницы огромной страны, в качестве… рекламы живого корма для рыбок?! Ну и Витька!
Заметив меня, он смутился слегка, отшутился как-то, завернул в бумажку один кружочек, но деньги брать категорически отказался. Рядом был напарник, который подавал ему из большого бидона очередную порцию товара. С этим парнем они и ездили по субботам куда-то за Сумгаит, там долго бродили по болотистой местности, отлавливая этих червей, чтобы по приезду домой как следует их промыть и сохранить в прохладном месте, а то они быстро теряли свой товарный вид. Кто из нас тогдашних решился бы на такое?! А ведь это было истинно по-мужски, чтобы не сидеть на шее у пожилой мамы, нести копейку в дом, да еще и иметь карманные деньги на книги, на краски, на кино.
Все мы тогда пребывали в том полусумасшедшем возрасте, когда так и тянет всего на свете попробовать: и сигарет, и спиртного. И только сейчас припоминается, что Витька в этом как-то не участвовал, никогда, тем не менее не слывя чистоплюем. Просто не пил и не курил, и все. И не только в этом он был не похож на многих из нас, его приятелей и одноклассников. Витя, по сути, не обращал никакого внимания на свою внешность. Запросто мог появиться нечесаный, в мятой рубахе. Но с ним было до того интересно, что мы старались этого не замечать. Если быть до конца откровенным, то Витя был попросту некрасив, лицо его было выточено словно второпях, без любви, каким-то грубым, неподходящим для этого тонкого дела инструментом. И сам же иронизировал по этому поводу, частенько ссылался на популярного французского актера Фернанделя, который любил говаривать, что напугал еще нянечек в родильном доме. Ему, в свою очередь, как я теперь понимаю, были просто неинтересны все эти наши расклешенные брюки и приталенные сорочки, эти двойные шлицы на пиджаках. Более того, никто из нас ни разу (!) не видел его с какой-нибудь девочкой, что для нас, постоянно влюбленных пингвинов, вообще было за гранью понимания. Неужели ему и в самом деле никто не нравился, или он был так скрытен в этом главнейшем для нас вопросе?
Размышляя об этом сегодня, я понимаю, что мой одноклассник был, наверное, скроен из того же материала, что и Ломоносов, вообще в нем было очень много от человека эпохи Возрождения. Неслучайно он так любил этот период истории, много читал и знал о нем. Что прочила ему судьба, кем он должен был стать? Все мы были глубоко убеждены, что Витя Потапов, Потап, как звали его между собой, непременно станет выдающимся ученым будущего. Причем светлого. В том, что оно может быть каким-то иным, никто из нас тогда даже не сомневался.
Как это частенько бывает после окончания школы, общение между бывшими одноклассниками становится избирательнее, но Витька как-то резко выпал из нашего круга. Мы же этого долго не замечали по причине новых радостей, новых забот, новых, уже институтских, приятелей. А может, и оттого, что он так и не стал, еще учась в школе, завсегдатаем многих наших увеселений. Помню, как кто-то поведал совершенно невероятную историю о том, что Витя не поступил в институт и пошел работать на стройку. Дескать, подал документы в политехнический институт и срезался на экзамене по математике.
Как часто мы слышим слово «подлость», нередко сами его употребляем, всякий раз разумея под этим не совсем схожие вещи. То, что произошло с Витей, было подлостью в самом классическом, самом настоящем смысле. Оказалось, что, когда абитуриентам предложили экзаменационные задания, Витя, заглянув в свое, сразу же уразумел, что знает его назубок и готов ответить немедленно. Все как всегда. Одного только Витя, честный Витька, не уразумел: вуз – это не школа, и уже тогда были родители, готовые отдать большие деньги, чтобы впихнуть в него своих балбесов, а также и нечистые на руку преподаватели, готовые им в этом содействовать. Так вот, после того, как Витя блестяще ответил на свой билет, его поздравили и отправили готовиться к следующему испытанию. А он от радости и голову потерял. Каково же было его изумление, когда, придя в институт, он не обнаружил в соответствующем списке своей фамилии. Кинулся в апелляционную комиссию, но там ему сунули под нос тот самый номерной листок, что дается каждому во время экзамена и где должны содержаться, пусть в виде тезисов, письменные ответы на предложенные вопросы. Листок Вити Потапова был так же безукоризненно чист, как и его совесть. Чего не скажешь о том подлеце, что так смачно плюнул в его юношескую душу. Конечно, будь у Вити отец или еще кто за спиной, может, и не дали бы совершиться гнусному беззаконию. Но оно совершилось.
Что касается самого Вити, то он почему-то не стал через год заново поступать в вуз, как делали в его случае многие, он просто перешел из этой жизни в параллельную. Туда, где нет гулких аудиторий и шумных молодежных пирушек, ночных бдений перед экзаменами и интересных курсовых, студенческого научного общества и стройотрядов, первой стипендии, КВНов и дискотек, многих и многих студенческих забот и радостей. Он стал одним из тех, кого принято называть работягами.
В последний раз я встретил его двадцать шесть лет назад поздно вечером в вагоне метро. Встреча была мимолетной, тогда ведь вообще казалось, что эта жизнь будет тянуться бесконечно, все огрехи еще можно будет исправить, впереди еще много времени и возможностей, чтобы всех собрать, со всеми вдоволь наговориться по душам, сказать каждому какие-то очень нужные слова, всех, кто в этом нуждается, утешить. Господи, помилуй.
А тогда он, кажется, первым узнал меня и, слегка пошатываясь, подошел со смущенной улыбкой. «Как ты? Где ты?» О чем еще можно спросить в этом гуле и грохоте, да еще рядом, как на грех, так много незнакомых, чужих людей. Витя же остался верен себе и на сей раз. Не переставая слабо улыбаться, он пригнулся к моему уху, обдав запахом портвейна, и, подмигнув, ответил: «Работаю в одном НИИ…» и, выдержав паузу: «…ломографом и кувалдометром…».
И эту последнюю услышанную мной Витькину шутку я поспешил тогда передать отцу.
ИРЗАБЕКОВ Фазиль Давуд-оглы, в Святом Крещении ВАСИЛИЙ
Источник изображения: www.liveinternet.ru
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.