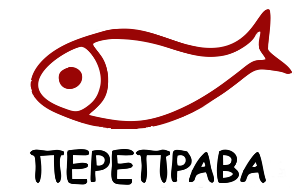К статье А. И. Солженицына о Февральской революции
Электронная версия этой статьи, «От размышлений к выводам: К статье А. С. Солженицына о Февральской революции», напечатанной в журнале «Москва» в 2008 году в архиве журнала не сохранилась.[1] Внизу редакция автора под новым заголовком «Революция революции рознь» с тем же подзаголовком. Автор вводит Февральскую революцию в контекст революций в Европе и в Америке, опираясь при этом на Эдмунда Берка, основателя современного консерватизма. Анализируя статьи Джона Стюарта Милля, Ханны Арендт и Джейкоба Талмона прослеживает возникновение тоталитаризма. Полемизируя с Солженицыным, чьё отношение к Михаилу Романову и его Манифесту 3 марта 1917 (ст.ст.) было огульно отрицательным, Краснов вписывает феномен Михаила в парадигму либерально-консервативного мышления с его предпочтением к мирной эволюции и гражданской солидарности через политический компромисс.
Проложил ли Февраль дорогу Октябрю? Не могла ли Россия пойти, после Февраля, другим путем? Нужен ли был сам Февраль? Нельзя ли обойтись без революций вообще? Вот вопросы, которые возникают по прочтении статьи Солженицына «Размышления над Февральской революцией». [2]
Напечатанная в «Российской газете» в связи с 90-летней годовщиной этой революции, статья вызвала общественный резонанс в силу своей сопричастности к нынешней политической ситуации в России. Не разобравшись в том, как благие порывы либерального Февраля обернулись суровой диктатурой большевицкого Октября, «в нашу перестройку мы повторили целый ряд ошибок Февраля», сказала Наталья Солженицына на презентации статьи. И выразила надежду, что статья поможет россиянам «учиться на собственных ошибках».
Оценка Февраля Солженицыным вызвала полярно противоположные мнения. С одной стороны, Владимир Лукин согласен, что перерождение Февраля в Октябрь – это «серьезный трагический срыв» в истории России. «Как сделать так, чтобы в России не произошло срыва в 21 веке?» - заостряет Лукин актуальность статьи. С другой стороны, историк Андрей Николаевич Сахаров считает наоборот, что в Феврале Россия стала «самой свободной страной в мире» и что «В 90-е годы практически мы вернулись к февралю 1917-го и от него начали движение», причём многие идеалы Февраля «у нас до сих пор еще не проведены в жизнь».[3]
Такая полярность мнений под стать категоричности самого Солженицына: «Февральской революцией не только не была достигнута ни одна национальная задача русского народа, но произошел как бы национальный обморок, полная потеря национального сознания. Через наших высших представителей мы как нация потерпели духовный крах. У русского духа не хватило стойкости к испытаниям».
Считая и Февраль, и Октябрь фазами единого революционного процесса, Солженицын видит его «всемирно-историческое» значение (если употребить советское клише о Великой Октябрьской Социалистической Революции) в том, что «российская революция оказалась событием не российского масштаба, но открыла собою всю историю мира ХХ века – как французская открыла ХIХ век Европы…». «Теперь мы видим, что весь ХХ век есть растянутая на мир та же революция. Это должно было грянуть над всем обезбожевшем человечеством». Солженицын одобрительно цитирует слова отца Сергия Булгакова, что в XX веке Россия взвалила на себя «бремя грехов европейского мира». Если Солженицын прав, то его статья остаётся как никогда злободневной и за пределами России, в особенности в её взаимоотношениях с внешним миром.
По ту сторону океана
По ту сторону океана, мне не раз случалось слышать сравнения революций в России с «западными» революциями, особенно, Американской 1776-го и Французской 1789-го года. На бытовом уровне, преобладающее мнение в Америке такое: при всех крайностях и издержках, любая революция прогрессивное явление. Видимо, национальный опыт и даже язык довлеют над мыслью. Раз нынешняя процветающая страна США родилась в буре революционной войны за независимость, то и само слово «революция» для американского обывателя окрашено радужными тонами и овеяно ореолом славы. Если же американская революция была хороша для нас, рассуждают американцы, то и «русская революция» хороша для «русских».
Не раз пытались убедить меня: «Как мы, американцы, избавились от иноземной короны, так и Россия избавилась от самодержавия и еврейских погромов. Революция уничтожила безработицу, социальное неравенство, национальную рознь, дала всем бесплатное образование, вывела страну вперед и даже обогнала нас, запустив свой спутник». «Пусть были издержки, как Сталинский террор и ГУЛАГ. Так в этом виноваты сами русские, привыкшие к твёрдой руке». Недаром, они всегда голосуют за Советскую власть, и в стране нет ни забастовок, ни восстаний. Диссиденты же, не находя поддержки у народа, эмигрируют за границу». Примерно так же рассуждал о «прогрессивности» русской революции (неважно какой) и французский обыватель. Может быть, он был «лучше» осведомлён об СССР, чем американец, но это «лучше» подавалось под марксистским соусом. Чуть ли не до перестройки, во Франции нелегко было сделать университетскую карьеру, не будучи марксистом.
Эта увлеченность западных интеллектуалов «прогрессивными» революциями подтверждает вывод Солженицына, что Февраль есть на «весь ХХ век растянутая на мир та же революция», то есть сдача либеральных, демократических и гуманных позиций в угоду всякого рода революционным экстремистам. Из-за влияния марксизма, часто подспудного, почти вплоть до перестройки, иммунитет Запада против заболевания «революцией» был опасно занижен. Это увлечение началось не с Маркса, а уходит своими корнями в атеизм эпохи просвещения.
Однако именно Маркс вооружил атеиста «научной теорией» о классовой борьбе и революционном насилии как непременном условии прогресса. Ведь для атеиста «наука» это эрзац веры. В школе нас учили: Американская революция хороша, но застряла на буржуазной стадии. Французская была лучше, ибо радикальней. Но, не познав «науку» классовой борьбы, дальше якобинства французы не пошли, а отшатнулась к Термидору и буржуазному кодексу Наполеона. Парижская коммуна в 1871 могла бы стать пролетарской революцией, если б вожди были решительней. А вот большевики на буржуазную «мягкотелость» не поддались, ни на какой компромисс не пошли и установили диктатуру пролетариата, как и предсказывал Маркс. Такие шаблоны мышления до недавнего времени довлели не только над людьми в СССР, но и над «прогрессивными» умами Запада. Солженицын прав, что русская революция была растянута на весь XX век.
Эдмунд Бёрк: Революция революции рознь
Однако опыт поколений разных стран ясно показывает, что революция революции РОЗНЬ. Не только по степени радикальности и жестокости, но и по эффективности, то есть способности разрешить насущные проблемы общества и оздоровить его на длительный срок. Никакая типология революций не обойдется без имени английского мыслителя, который в России не был вовремя замечен и не получил должного признания. Это Эдмунд Бёрк (Edmund Burke, 1729 – 1797), автор знаменитых «Размышлений о революции во Франции». Один из столпов современного консерватизма, Бёрк больше всего хвалил ту самую Славную Английскую революцию 1688 года, которую Маркс учил нас порицать. А вот Французскую революцию Бёрк сразу же не взлюбил, едва она началась и ещё не достигла апогея мерзости.

Бёрк был одним из немногих английских «диссидентов», кто приветствовал Американскую революцию. Будучи членом Палаты представителей, Бёрк мужественно отстаивал право колоний на независимость от английской короны. Рискуя прослыть «изменником», не стеснялся порицать своё правительство за тщеславие имперской амбиции. «Мудрость в политике нередко выражается в великодушии: великие империи не зиждутся на мелочных умах». Так почему же Бёрк так не взлюбил “революцию во Франции»? Да потому, что для него она и не была по-настоящему Французской, не была естественным новым этапом исторической Франции, а была ее «срывом» или «обвалом».
Вот основные положения книги Бёрка: Не укорененная во Французской истории, «революция доктрины и теоретической догмы» была торжеством абстракций над здравым смыслом и историческим опытом. Какие бы ошибки король Франции ни делал, их можно было легко исправить с помощью реформ. Именно реформ, а не революции требовал народ Франции, посылая своих представителей в Генеральные Штаты. Однако движущей силой революции стала клика «софистов» и фанатичных атеистов, захвативших монополию на «все каналы общественного мнения».
Эта клика «уже давно составила нечто вроде систематического плана для разгрома Христианской религии. Свою цель они преследуют с рвением…проповедников сектантской набожности. Они фанатически одержимы стремлением к прозелитизму и духом преследования несогласных». Поставив целью разрушение традиционного порядка, эти демагоги нападают на главные устои общества: церковь, наследственную собственность дворянства и институт королевской власти. Провозглашая «демократию чистейшей воды», толкают страну к «капризной и бесчестной олигархии» На словах ратуют за бедных и порицают богачей, а на деле создают «союз безмерно богатых с отчаянно нищими». Революция создала «острейший кризис в состоянии не только Франции, но и всей Европы, а возможно и вне Европы… Французская революция самое поразительное явление, которое когда-либо происходило в мире».
Предтеча славянофилов
Оценка Бёрка Французской революции удивительно совпадает с оценкой Солженицына революции в России. Солженицын особо подметил духовное родство этих двух революций в атеистическом фанатизме. Однако, в отличие от Солженицына, Бёрк написал свою книгу по свежим следам описываемых событий. Более того, его книга вышла в 1790-м году, на ранней стадии революции, когда та не успела еще ужаснуть цивилизованный мир якобинским террором, казнью короля и королевы, казнью революционера Робеспьера и диктатурой Наполеона. Бёрк был провидец. Как Ламарк мог определить вид животного по одной косточке, так и Бёрк узрел в либеральном краснобайстве «софистов» зверя массового террора. Не только узрел, но и предостерег соотечественников против бездумного подражания новой политической моде.
«Размышления» Бёрка - это его письма молодому парижанину, осведомляющему его о положении дел в революционной Франции. По существу же они являются полемикой с теми «прогрессивными» англичанами, которые восторгались первыми демократическими шагами руководителей Национального собрания и призывали англичан к «демократизации» по французскому образцу. У Бёрка нет заносчивости перед Францией. Он охотно признает её одним из истоков европейской цивилизации. Но, «когда ваш исток загажен», пишет он своему юному другу, «ручей принесет только муть и для нас, и для других народов. Именно это создает во всей Европе острую озабоченность тем, что сейчас происходит во Франции».
Главное противоядие против Французской «заразы» Бёрк видит в национальном характере английского народа, его преданности историческим традициям и здравому смыслу. «Благодаря хладнокровию и медлительности нашего национального характера, мы гордо несём на себе печать предков. Мы унаследовали от них щедрость и достоинство в восприятии мира. Мы еще не докатились до ‘тонкости’ софистов, превратившей их в дикарей. Мы не обратились в веру Руссо, мы не стали учениками Вольтера, и Гельвеций не наш учитель. Наши проповедники не проповедуют атеизм, наши законодатели не спятили с ума... Нас еще не набили, как чучела в музее, всякой шелухой о правах человека. Мы сохраняем целостность восприятия и здравый смысл... В нашей груди бьётся живое сердце. Мы со страхом смотрим на Бога, с преданностью на короля, с приязнью на парламент, с ответственностью на магистратов, с почтением на священников и с уважением на дворян».
«Общественному договору» Жан-Жака Руссо, вдохновившему французов к созданию тиранического государства общей воли, Бёрк противопоставил свою концепцию. Да, отвечал Бёрк, государство зиждется на общественном договоре. Только это не торговый контракт, который стороны могут расторгнуть. С государством может быть только неписаный вечный договор на «содружество во всех науках и искусствах, всех достоинствах и всех совершенствах». Цели его не могут быть достигнуты одним поколением. Ибо это договор не только «между гражданами страны, живущими в данный момент, но и ушедшими поколениями, и теми, кто ещё не родился».
Книга Бёрка вызвала огромный резонанс. В течение года ее переиздавали десять раз. Король простил Бёрку «измену» и советовал каждому «джентльмену» прочитать его книгу. Произвела она впечатление и во Франции, где король Людовик ХVI сам перевёл ее на французский, увы, уже под тенью гильотины. При полной монополии «софистов» на печать, во Франции книга уже не могла сделать погоду. Зато в Англии она укрепила иммунитет страны к французской «заразе», подняла патриотизм и национальное самосознание.
Бёрк скончался в 1797 году, но его идеи продолжали «работать». Они подготовили общественное мнение к вступлению Англии в коалицию против Наполеона и мобилизовали её боеспособность. Так Бёрк внёс свой вклад и в победу России над Наполеоном, исчадием той самой революции, плачевные последствия которой для Европы он предвидел. Диагноз, который Бёрк поставил Французской «болезни», совпадает с Солженицынским. Это - самовлюбленное зазнайство «просвещённых» атеистов. Начав с требования «свободы, равенства и братства», они кончают элитарным управлением от имени народа, ограничением свободы для несогласных, братоубийственной войной и военной экспансией.
«Их свобода не либеральна. Их наука - плод самонадеянного невежества. Их гуманность дика и жестока». Зазнайство толкает их не просто к отрицанию религию, но к отождествлению своего якобы свободного разума с Богом. Восстав против церковного догматизма, они создают свой собственный. У Маркса этот богоборческий догматизм нашёл выражение в теории «научного» коммунизма, который якобы всё и вся объясняет. Он так дорого обошёлся стране и миру, что об этом не принято вспоминать. Теперь вышло из моды, не только в России, но и на Западе, хвалить «научную теорию» Маркса. Однако соблазн создавать всеобъемлющие теории остался. Как и решимость применять их в глобальном масштабе.
Не только диагноз Бёрка похож на Солженицынский, но и его лекарство: не поддавайся на лесть (дескать, понял нашу науку, значит, умён), живи не заёмными теориями, а своим здравым смыслом и национальным опытом. Не забывай заветы предков, как его забыли упоённые «просвещением» французы. Примерно такого же мнения о Французской революции были и наши славянофилы. Бёрк был их идейным предтечей. В своём противодействии чужим новшествам, он взывал к самобытному английскому опыту, к тем же трём китам: вере, монархии и отечеству. Только вера у него была англиканская, а монарх был королём, чья власть была ограничена парламентом.
Либеральный и сострадающий консерватор
Бёрк являет собой яркий пример либерального консерватора. Он гордится революций 1688-го года, ибо она дала англичанам «Билль о правах» и компромисс между представительной и наследственной властью. И сделано это было не отвержением английской истории, а развитием заложенных в ней свободолюбивых традиций, в том числе «Хартии Вольностей» 1215 года. Войдя в историю под именем славной и бескровной, она установила гражданский мир и равновесие между разными общественными слоями. В Палате представителей Бёрк неустанно боролся за права униженных и обездоленных. Он обличал злоупотребления властей, как против бедных ирландских католиков, так и покорённых за морем индусов.
Когда возникли трения с колониями в Америке, Бёрк пытался умерить имперские амбиции метрополии. «Вопрос не в том, имеете ли вы право сделать народ (колоний) несчастным, а в том: не в ваших ли собственных интересах сделать этот народ счастливым?», заявил Бёрк в парламентской речи в марте 1775. Когда попытка примирения не удалась и разразилась война, Бёрк твёрдо стал на защиту мятежников. Решающим в симпатиях Бёрка к американской революции было то, что её руководители не покушались ни на религию, ни на частную собственность, ни даже на традиционное право короны собирать налог с колоний. Их исходное требование посылать своих выборных представителей в английский парламент он считал вполне обоснованным английской же традицией.
В отличие от Французской, Американская революция была не теоретической и абстрактной, а прагматической. Во главе её стояли не фанатичные догматики, а люди умеренные и способные пойти на компромисс. Да, многие из них были вольнодумцы, просвещенные рационалисты, атеисты и масоны. Но, даже отвергая божественное происхождение монаршей власти, они не отвергали всего прошлого, как это делали французы. И не навязывали свою «религию» другим. Они вдохновлялись идеями и опытом древней Греции и Рима, как общеевропейского наследия.
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ Бёрка для типологии революций был: Способна ли революция разрешить назревшие общественные проблемы, залечить раны и установить гражданский мир на длительный срок? Или, как он сам выразился: Является ли революция «родительницей урегулирования или яслями будущих революций»? Прилагая этот критерий, можно назвать успешными как Английскую революцию 1688 года, так и Американскую 1776-го. Первая стала «родительницей урегулирования» революционного процесса, включавшего противостояние парламента королю, гражданскую войну, диктатуру Кромвеля, казнь короля, провозглашение республики и восстановление монархии. Славная и бескровная завершила этот процесс политическим компромиссом между королём и парламентом через установление новой династии (с урезанной властью) и провозглашение «Билля о правах». Хотя прерогативы короля были позднее урезаны ещё больше, английская политическая система с тех пор существенно не изменилась.
Соединенные Штаты по праву гордятся тем, что общественный порядок в них зиждется на самой древней действующей конституции в мире, родительницей которой была революционная война за независимость. И реального народоправства в Америке оказалось гораздо больше, чем во Франции. Алексис де Токвиль (Alexis de Tocqueville, 1805-1859), либеральный французский политический деятель, посетивший Америку дважды 1830-е годы, был поражён высоким уровнем демократии почти во всех сферах общественной жизни Соединённых Штатов. И это несмотря на то, что основатели американского государства обошлись без слова «демократия» как в Декларации независимости, так и в самой Конституции.
Став родительницами урегулирования, эти две революции заложили фундамент политической стабильности, экономического процветания и международного престижа Англии и США. Их экономическому процветанию немало помог тот же стойкий национальный характер, на который так полагался Бёрк. Более того, как убедительно показал выдающийся немецкий мыслитель Макс Вебер (Max Weber, 1864-1920), начиная с XVII века национальный характер, как англичан, так и американцев подвергся закалке протестантской этикой предпринимательства. Следуя этическому императиву, что трудолюбие, бережливость и предприимчивость богоугодны, англичане и американцы добились решающих преимуществ на ранней стадии индустриализации.

Макс Вебер
А вот французам и русским не повезло. Французская революция 1789 года не только выродилась в массовый террор, гражданскую войну, диктатуру и военную экспансию, но и подорвала общественный порядок во всей Европе. Она поистине стала рассадником будущих революций, как во Франции (восстановление Бурбонов в 1815, революция 1830, 1848, Парижская Коммуна 1871), так и вне нее. И, как показывают события 1968-года в Париже, этот революционный процесс, вероятно, до сих пор не завершился.
Революционный сериал в России
В России революция тоже стала многосерийной. 1905 год была первая серия. Манифест Николая, ограничивший самодержавие законодательной Думой, положил, казалось, начало компромиссу. Но крайние левые никакого компромисса не хотели и продолжали устраивать погромы поместий и теракты. Назначенный премьером, Петр Столыпин от компромисса не отказался. Энергично и смело борясь с терактами, он встал на путь аграрных реформ для улучшения жизни крестьян. Опасаясь, что ему удастся одолеть сельскую нищету, создать средний класс и тогда им уже не раскачать революцию, левые заклеймили Столыпина. Ведь их лозунгом было «чем хуже (для страны), тем лучше (для них)». Когда Столыпин пал жертвой теракта в 1911-м, левые возликовали. Но и правые не особенно горевали. Увы, в окружении Николая не нашлось государственного человека, чтобы продолжить дело Столыпина и вести страну курсом примирения и деловитости. Придворная челядь так и не поняла, что жить по старинке уже нельзя. Столыпина не уберегли, реформ не продолжили, вопреки его предупреждению ввязали страну в новую войну.
Когда больной России был больше всего нужен гомеостаз, её потащили на закалку в горнило Первой мировой войны. Повторилось всё как во время войны с Японией. Правда, поддержавшая революцию 1905-го русская интеллигенция уже начала прозревать в 1909-ом году публикацией сборника «Вехи». Однако, к началу Первой Мировой это прозрение не смогло одолеть левого крена образованной элиты России. Чем большевики не преминули воспользоваться, провозгласив: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Думские либералы под этот лозунг не встали, но потребовали перемены государственного строя в самый неподходящий момент. Затеяли менять лошадей в самой стремнине войны. Увы, частой и произвольной сменой министров царь сам подавал повод.
Вот и получилась вторая серия, революция Февральская. Хотя считается она стихийной, но надо отдать должное большевикам, что репетиция 1905-1907 годов не прошла даром. И Советы перекочевали из первой во вторую, и партийная печать, и готовность получать оружие и деньги от внешнего врага. Несмотря на Столыпинскую «реакцию» и казни боевиков военно-полевыми судами, кое-какие кадры 1905-го наверняка перекочевали в февраль 1917. По некоторым подсчетам, в первый же день беспорядков в Петрограде было убито около двухсот офицеров, полицейских и просто пешеходов. Много ли нужно иметь боевиков, чтобы посеять панику в столице, наполненной тысячами не желавших отправки на фронт солдат?
Медлительность царского правительства в первые дни беспорядков привела к их эскалации. Ситуация ещё больше усугубилась мятежом военных частей, расквартированных в Петрограде. Уже через пару дней уличного самосуда стало ясно, что это – революция. И подавить ее можно было только армией, рискуя развязать гражданскую войну. На такой риск царь Николай не мог пойти, будь то в силу своих убеждений или осознания потери авторитета среди военачальников. Поэтому он и отрекся от престола в пользу младшего брата Михаила, чей авторитет в армии был гораздо выше. Он явно рассчитывал на решительные военные меры со стороны Михаила.
Но плохо знал царь своего брата. Михаил был не менее совестлив. Неизбежное пролитие русской крови в условиях внешней войны претило ему не меньше, чем Николаю. Михаила знал, что самодержавие не может быть спасено. Почему ж он не объявил себя конституционным монархом, как ему советовали некоторые думцы? Не должен ли он был хотя бы спасти династию? Такой вариант был возможен несколько дней назад. Но Николай упустил его и для себя, и для сына, и для Михаила. Принимая решение 3-го марта 1917 года (ст. ст.), Михаил понимал, что не только самодержавие, но и конституционная монархия не могут быть спасены. Единственный шанс для победы над внешним врагом он видел в примирении с теми, кто вчера требовал отмены самодержавия, а сегодня и монархии вообще.
И поставил интересы страны выше интересов династии и своих собственных. Единственную надежду для Романовых он видел в добровольном возвращении их суверенной власти к её источнику. В 1613-ом они были возведены на престол народной волей Земского Собора. В 1917-ом они должны были вернуть свою власть на суд народной воли, выраженной теперь через Учредительное собрание. Образно говоря, приняв шапку Мономаха из рук самодержца, Михаил не увенчал ею свою голову, но и не отрёкся от престола. Он вернул её к своему источнику. Подписав манифест о не восхождении на престол до решения Учредительного собрания о форме правления, Михаил дал стране шанс для победы над внешним врагом.
Политическим элитам он дал передышку, чтоб одуматься и покончить смуту гражданским примирением. В случае ожидаемой победы Антанты монархия имела бы неплохой шанс в Учредительном Собрании сохраниться в конституционной форме. Тогда Февральская революция вошла бы в историю как Славная Русская.
Сериал продолжается
Увы, были силы в обществе, которые никакого компромисса не хотели. Вероятно, и Керенский, игравший во Временном правительстве ведущую роль, к компромиссу не стремился. То ли под натиском Петроградского Совета, то ли по своей инициативе, он подорвал всякую надежду на скорую победу преследованием монархически-настроенных генералов. Эскалация революции продолжалась. Тут и приказ № 1, тут и аресты членов императорского дома, тут и незаконное провозглашение республики. Последний акт означал нарушение конкордата с Михаилом. Это был отказ от позиции непредрешенчества до созыва Учредительного Собрания. Это был откат Февраля от демократии. Объединившись с большевиками в подавлении «мятежа» генерала Корнилова, Керенский загнал себя в левый угол. И открыл зелёный свет для Красного Октября.
Ленин на броневике из фильма Эйзенштейна
Как и Февральская, Октябрьская революция стала не родительницей урегулирования, а рассадником новой серии революций внутри страны и на экспорт. Процесс растянулся на 74 года. После позорной капитуляции в Бресте процесс пошёл по «французскому» пути: к террору против «контрреволюционеров», гражданской войне, крестьянской Вандее, якобинству Троцкого, термидору НЭПа, чекистским чисткам, ГУЛАГу, личной диктатуре и бонапартизму Сталина. В отличие от Французской, Великая Октябрьская дожила до бюрократического, экономического и идейного старческого маразма.
Революция Четвёртая
Осознание партийной верхушкой при Горбачёве, что страна зашла в тупик, не привело к поиску общественного согласия. Вектора для выхода из тупика не было найдено. Раздрай в партийных рядах привёл к путчу ГКЧП, падению Горбачева, развалу СССР и мировой коммунистической системы. Это была четвёртая революция, приведшая к разгильдяйству Беловежской Пущи и власти Ельцина в обрубленной Российской Федерации.
Борис Ельцин со товарищи на танке
Оставалась ещё возможность застопорить развал и добиться консолидации России на меньшей территории. Однако объявление Ельциным вседозволенности этнических суверенитетов поставило страну на грань гражданской войны. Увы, не благоразумие и умеренность среди элит уберегли страну от гражданской войны, а их жадность. Они вдруг поняли, что наворовать можно легче и больше в мирных условиях, под лозунгами приватизации и интеграции страны в глобальную экономику. Ведь «мирные условия» означали для них правовой беспредел. И свободу найма «частных» боевиков, как в «бизнесе», так и в правительственных структурах, даже и в парламенте. И экспорт капитала за границу. Но ценой роста государственного долга и потери суверенитета страны.
Революция Пятая: От демократии к олигархии
Вот тогда и произошла пятая, или вторая Октябрьская революция, начавшаяся обстрелом парламента войсками Ельцина в октябре 1993-го. Запад, только что учивший россиян разделению властей, а ля Монтескье, этого обстрела одной ветви власти другой не «расслышал». Но «восстановлению порядка» рукоплескал, «дабы коммунисты не взяли реванш».

Здание Верховного Совета после обстрела 4 октября 1993
Первая Октябрьская разграбила страну конфискацией и национализацией частной собственности. И это назвали переходом от капитализма к социализму. Вторая Октябрьская узаконила начавшееся с 1991-го года разграбление страны с помощью приватизации национальных богатств. И назвали это переходом от социализма к свободному предпринимательству и рыночным отношениям. Пятая не стала просто реставрацией капитализма, каким он был до 17-го года. Она отбросила страну ещё дальше назад, чем исходная точка первой Октябрьской. И увенчалась олигархией, самой антидемократической экономической системой в новейшей истории. Такой колоссальной концентрации капитала в столь немногих руках история ещё не знала. Во всяком случае, её нет ни в Америке, ни в Западной Европе.
Революция Шестая: Гомеостаз
Отречение Ельцина от престола в пользу Путина положило начало шестой революции, бескровной в столицах, но не на периферии. При Путине удалось затормозить сползание страны к новому «срыву». Государственники в его окружении начали мыслить своим, а не заёмным умом. Возросшие цены на энергоносители помогли избавиться от долговой зависимости от Запада, а заодно распрощаться с иносоветниками. «Борьба с терроризмом» если не подружила Россию с США и Европейским Союзом, то уменьшила давление реформировать страну на ИХ условиях. Самое же главное, несмотря на изнурительную войну в Чечне, правление Путина дало длительный период стабильности и экономического роста, который был так же необходим для России, как гомеостаз для больного. К счастью, Путин проявил способность расти на посту и показал себя государственным мужем во внешней и внутренней политике. Всё это обеспечило ему высокий и стабильный рейтинг популярности.
Лояльная оппозиция, или олигархический реванш?
Но срок президентства Путина истекает, и страну начинает снова лихорадить. Раздаются угрозы то «оранжевой», то «розовой», то ещё какой-то революции. То слева, от нацбола Эдика Лимонова. То справа, Березовский угрожает олигархическим реваншем. То Касьянов, из Ельцинской «семьи», метит из опалы попасть в президенты. То Гарри Каспаров делает очередной ход конём. Эти разговоры, при популярности Путина, можно бы было игнорировать как велеречивый пиар. Если бы не наблюдалась досадная тенденция: чем лучше дела у России, тем больше порицают Путина на Западе. И тем больше ставят на его противников. Хотя Путину удалось вывести некоторых из олигархов из большой политики, рычаги влияния у них остались. К тому же, при всех успехах в других областях, коррупция в стране не уменьшилась. А коррупция это главный ресурс олигархов. Не исключено, что сейчас они ведут себя ниже травы, тише воды, чтоб втихаря инфильтрировать своих людей и в аппарат президента, и в силовые структуры. И взять реванш.
К Славной Русской
Итак, задача вытаскивания страны из цикла разрушительных революций и выведения её на орбиту устойчивого эволюционного развития остается нерешённой. Не будем говорить, что для её решения нужна ещё одна революция, чтоб покончить со всеми революциями (Думаю, само слово «революция» россиянам оскомину набило). Не будем призывать и к шоковой терапии, чтоб не шокировать «терапевтов». Просто нужна череда продуманных и очень смелых эволюционных реформ для устранения срывов, перегибов, эксцессов и правонарушений всех предыдущих революций, уже больше ста лет сотрясающих Россию.
- В экономике, развивать многоукладность форм собственности и предпринимательства ради расширения народного участия в свободном рынке.
- Покончить с монополией олигархов в ключевых отраслях, как главным препятствием к развитию широкого частного предпринимательства.
- Главным средством обуздания олигархов должны быть антимонопольные законы, требующие мониторинга и прозрачности финансовой деятельности. Антимонопольная практика США и Западной Европы могла бы пригодиться.
- Стимулировать создание мелких и средних предприятий, по количеству и разнообразию которых Россия далеко отстаёт от мирового уровня. Поддерживать предприятия, где контрольным пакетом владеют коллективно служащие и рабочие данного предприятия.
- Перенимать лучший опыт бинарной экономики других стран. Укрепить роль профсоюзов по всем отраслям для защиты прав трудящихся в соответствии с западноевропейскими стандартами. Это поможет понизить взрывоопасный уровень социального расслоения.
- В области политической создавать все условия для нормальной деятельности лояльной патриотической оппозиции. Граждане должны быть уверены в честности выборов. Они должны знать, что при любом исходе выборов, страна сохранит стабильность, никто не будет лишён ни прав, ни благосостояния.
- В области духовной, нужен реальный жест национального согласия, Великий компромисс, который примирил бы, наконец – не на год, и не на десять, а на поколения – разные политические, экономические, этнические и религиозные интересы на благо всей страны. Такое согласие («консенсус»?) должно охватить весь политический спектр – и левых, и правых, либералов и консерваторов. Его надо искать на основе патриотизма, взаимоуважения, открытости, прощения взаимных обид, отказа он насильственных действий, при сохранении и укреплении прав человека, свободы совести и свободы лояльной политической оппозиции всех народов России.
Акт примирения и согласия внутри страны обеспечил бы и достойное участие России в строительстве мирового сообщества. Вот тогда бы Бёрк сказал, что, преодолев соблазн абстрактной революции типа Французской 1789-го года, Россия совершила свою Славную Русскую и пошла, наконец, своим собственным самобытным русским путем в соответствии со стандартами универсальной нравственности и здравого смысла.
Соблазн остался
Добиться такого гражданского примирения будет не просто. Многое будет зависеть от динамики международных отношений. Да и внутри страны, как ни странно, соблазн снова пойти по «западному» пути остался. И это несмотря на то, что каждый раз, когда Россия вступала на «западный» путь, результат был не только плачевным, но и совсем не западным. В 1917-ом большевики повели страну по последнему писку западной моды. Опираясь на «научную» теорию Маркса, обещали разжечь в России пламя Всемирной пролетарской революции и перекинуть его в Европу с целью освобождения трудящихся всего мира из-под ига капитализма и его последней загнивающей стадии, империализма и колониализма. И что из этого получилось? Сами обгорели в гражданской войне, а пламя в развитые страны, где рабочий класс был в большинстве, так и не перекинули.
Реакцией на попытки поджога был национал-социализм и пожар Второй мировой, унесшей больше всего жизней русских и других народов СССР. Во время Холодной войны, опираясь на «прогрессивных», «новых левых» и «писников» (часто тех же марксистов) на Западе, советские вожди помогли освобождению колоний и созданию лучших условий для трудящихся западных стран. Зато себя, несмотря на успехи в космосе и военной технике, изолировали от научно-технического прогресса и современных методов ведения хозяйства и научных исследований. И не создали достойных условий для СВОИХ трудящихся. Тогда-то западные СМИ не особенно замечали советское отставание, превозносили СССР как будущее человечества, мечтали о «конвергенции» капитализма и социализма, настаивали на внедрении на Западе плановой экономики, государственной медицины и бесплатного образовании по советской модели.
Но к 1991-му мода на Западе переменилась: всё чаще стали говорить о превосходстве свободного рынка над плановой экономикой, Адама Смита над Марксом. Поддавшись на новую моду, перестроечная элита опять повела страну по «западному» пути, но уже в противоположную сторону. А что из этого получилось? Расползание советского блока, развал СССР. Не капитализм, а карикатура на него. Не свободный рынок, а олигархическая монополия. И пропасть между богатыми и бедными, какой нет ни в США, ни в Европе, да не было и в царской России. А ведь создание общества социально-экономической справедливости было одной из главных целей Октябрьской революции. Не только ограбили советских трудящихся, а ещё и в лицо наплевали.
Ну а Петр Великий, разве не добился успехов? Несомненно, он добился серьёзных успехов в области военно-политической. Но были и отрицательные последствия: укрепление самодержавия (ведь модный тогда на Западе абсолютизм лил воду на его мельницу), подчинение церкви государству (с устранением патриархии была устранена и система сдержек и противовесов), увеличение разрыва между бедными и богатыми, расширение культурной пропасти между европеизированной дворянской элитой и мещанско-крестьянскими народными массами.
Вопрос не в том, идти ли по западному пути. Вопрос в том: КАК по нему идти, здраво или слепо? Какие черты Запада выбирать как достойные подражания? Идти по Бёрку или Робеспьеру? По Марксу или Максу Веберу? Боюсь, что какой-то комплекс неполноценности заставляет русских «передовых» людей копировать Запад не лучшим образом. А обратная сторона этого комплекса, гигантомания, заставляет их воображать, что за ними весь мир пойдет.
Модернизация, а не европеизация
Япония пошла по западному пути гораздо позднее, но и умнее. И добилась за краткий срок гораздо более значительных успехов. Это касается в первую очередь их «революции Мейдзи» (уж что о ней писал Маркс, не будем и вспоминать). Началась она в 1862-ом, а в 1905-ом Япония уже побила более демократизированную Россию. Главная разница в том, что, вступая на западный путь, японские реформаторы не отказались от своей японскости, будь то религия почитания предков синто или рыцарские традиции самураев. Мы же, начиная с 1905-го, упорно стараемся отказаться не только от своего «азиатского» и «феодального» прошлого, но и от религии предков и даже наследия культуры и литературы.
В этом мы продолжаем следовать примеру софистов Французской революции. Уже больше трёх столетий стараемся себя «европеизировать», а толку мало. Наши закомплексованные интеллектуальные светила способны завести Россию, в лучшем случае, в тупик или потёмки, а в худшем, к новому срыву, теперь уже в пропасть. Нужна не «европеизация», а модернизация, и заимствовать опыт надо не только у Запада, но и у Японии, Китая и вообще у всех стран. Демократизация тоже нужна и даже очень. Но, при всем стремлении к мировым стандартам, она должна опираться, прежде всего, на русскую историческую традицию народоправства и правосознания. Это и «Русская правда», и «Поучение Владимира Мономаха» и «Слово о законе и благодати митрополита Иллариона».
Это и средневековые республики Новгорода и Пскова. Это и русская крестьянская община. И демократический казачий круг. И Земские Соборы, избиравшие и наставлявшие русских монархов. И обычай добиваться согласия взаимными уговорами. И опыт реформ Александра II и Столыпина. Это и самоотверженный Манифест Михаила с предложением компромисса и упованием на народную волю. Чем глубже корни нашей политической, экономической, социальной, религиозной и культурной традиции, тем выше вознесется крона древа нашего будущего.
Так рассуждали японцы. Наши же «западники» наоборот считали, что прошлое России мешает движению вперед и должно быть отсечено. Японцы оказались правы. Даже потерпев сокрушительное поражение во Второй мировой, они своё прошлое не отвергли. И сейчас, будучи одним из ключевых участников глобальной экономики, продолжают культивировать своё прошлое. Был бы жив Бёрк, он назвал бы их революцию «Славной Японской». А генерала МакАртура, возглавившего оккупационный режим и настоявшего на сохранении для Японии императорского дома, Бёрк назвал бы дальновидным американским политиком и продолжателем дела Джорджа Вашингтона.
Буш против Бёрка
Этого Бёрк не сказал бы о нынешнем квартиранте Белого Дома. Политику Буша по распространению демократии во всем мире, под одну гребёнку, не взирая на национальные традиции, он назвал бы ещё одной абстрактной и вредной идеей. Его особенно огорчил бы тот факт, что идея насильственной демократизации мира родилась в стране, создание которой Бёрк так горячо приветствовал. Будучи патриотом, Бёрк гордился парламентской монархией Великобритании. Но отнюдь не считал, что такая форма правления подойдет всем другим странам. Он считал республиканское устройство подходящим для США. Не был он и принципиальным противником демократии. «Я не осуждаю ни одну форму правления, основываясь на ее абстрактной концепции», писал Бёрк. «В некоторых ситуациях установление чисто демократической системы управления станет необходимым».
В своей типологии революций Бёрк опирается на Аристотеля. Все формы правления, считал Аристотель, будь то монархия, аристократия или республика, не только преходящи, но и имеют тенденцию к превращению в нечто противоположное, то есть деспотию, олигархию, охлократию и тиранию. Именно стремительное вырождение Французской революционной демократии в тиранию привлёк внимание Бёрка. И все-таки нельзя игнорировать привлекательность идей СВОБОДЫ и ДЕМОКРАТИИ. Начиная с Английской 1640-го года, все новейшие революции, отражают общую мировую тенденцию к расширению УЧАСТИЯ НАРОДА в управлении страной. Постоянно растущий круг образованных людей в каждой стране стремится к свободе и участию в управлении государством. Эта тенденция проявляется даже в странах, не называющих себя демократиями или переживших революционные катастрофы. Недаром Токвиль писал, что «Жестокости, совершенные во имя свободы, могут сделать ее ненавистной, но не мешают ей оставаться прекрасной и необходимой».
Дилемма демократии
Поэтому не удивительно, что из всех форм правления известных со времен Аристотеля, в наше время демократия стала преобладающей. Но она же оказалась наиболее подвержена искажению и вырождению. Ибо демократы и демагоги - близнецы братья. Ведь и открытые противники демократии, как коммунисты, нацисты и фашисты ссылаются на народную волю, как источник их власти. Однако, в странах, где сохранилась монархия, религия и уважение к традиции, свободы зачастую больше, чем там, где правят генсеки, президенты и народные вожди. Заслуга Бёрка именно в том, что он рано обнаружил ТОТАЛИТАРНУЮ закваску современной демократии. Дело не только в том, что владельцы СМИ имеют неравную возможность создавать общественное мнение, а выборы и подсчеты голосов могут проводиться нечестно. Даже когда победа той или иной партии заслужена и несомненна, это еще не обязательно триумф демократии, свободы и гуманности.
Джон Стюарт Милль о демократии
Через шестьдесят лет после Бёрка, когда преимущество демократии перед другими формами правления стало аксиомой, её адепты обнаружили, что «тирания большинства» может быть хуже любого тирана. Лучше других это понял соотечественник Бёрка, Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806 – 1873), один из основоположников современного либерализма: «Воля народа практически означает волю наиболее многочисленной или более активной части народа, то есть большинства или тех, кому удалось выдать себя за большинство. В конце концов, сам народ может пожелать подавить меньшинство. Этому надо противиться, как и любому другому произволу». Милль призвал предпринять предохранительные меры против «тирании преобладающего общественного мнения или настроения» и защитить меньшинство от «политического деспотизма» большинства. Почему же мы так легко поддаемся под настроение большинства? «Причиной половины всех ошибок человечества является фатальная тенденция прекращать мыслить, как только вещь покажется несомненной». Милль назвал это явление «глубоким сном общепринятого мнения».
Тоталитарный крен влево
Трагический опыт первой половины XX века показал, что падение Российской, Австро-Венгерской и Германской империй не привело к торжеству демократий – в чем «общепринятое мнение» не сомневалось – но открыло дорогу диктатурам и новой мировой войне. Причём фюрер пришел к власти, получив большинство голосов на демократических выборах. Да и советские вожди от выборного ритуала никогда не отказывались. Вторая мировая и последовавшая за ней Холодная война, с гонкой ядерного оружия, поставили человечество на грань существования.
Это заставило лучшие умы опять задуматься над дилеммой фатального сползания либеральной демократии к диктатуре. В 1951 году Ханна Арендт (Hannah Arendt, 1906-1975), немецко-американский политолог марксистского толка, в книге «Истоки тоталитаризма» указала на сходство нацизма и сталинизма, как тоталитарных по своей структуре явлений. Разумеется, ортодоксальные марксисты на Западе обрушились на «ересь» постановки советского вождя на одну доску с фюрером. Однако не заметили главной ошибки Арендт. Она закрыла глаза на тоталитарную суть самой идеологии марксизма-ленинизма.
Между тем сочинения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина дышат тем же антирелигиозным догматизмом и фанатизмом, который так поразил Бёрка на заре Французской революции. Вероятно, марксистские шоры помешали Арендт увидеть, что нацистский тоталитаризм развился позднее, чем советский. Более того, в немалой степени он был ответной реакцией на события в Советской России, на теракты советской агентуры в Европе, на попытки коминтерновских революций в Венгрии, Баварии и Берлине. К тому же, нацистский тоталитаризм явно уступал советскому по «тотальности» в таких ключевых аспектах подавления индивида государством, как конфискация частной собственности (дающей владельцу долю материальной независимости от государства) и гонения на церковь.
Гораздо внимательней к истокам тоталитаризма отнёсся её современник Джейкоб Талмон (Jacob Talmon, 1916-1980) , профессор Еврейского Иерусалимского Университета. В книге «Истоки тоталитарной демократии» он прямо вывел тоталитарный характер коммунистической идеологии из теоретических посылок эпохи просвещения. Для Талмона сталинизм был такой же неизбежной фазой Октября, как якобинство во Французской революции. В книге «Политический мессианизм» Талмон пришёл к выводу, что философия Руссо не только вела к революции, но и содержала в себе семена левого тоталитарного насилия. Исторический анализ Талмона косвенно подтвердил правильность наблюений Бёрка.
Неоконы против Бёрка
Нынешняя политика США по активному распространению демократии во всем мире не только противоречит уставу ООН, утверждающему суверенитет каждого государства, но и идёт в разрез со здравым смыслом и опытом Западной цивилизации. Едва ли кто стал бы возражать, если бы речь шла только о распространении демократических идей через интернет, книги и СМИ. Но когда демократия насаждается экономическим шантажом, как в России в 1990-х, бомбардировкой, как в Югославии, или войной и оккупацией, как в Ираке сейчас, то возникает вопрос: не являются ли лозунги демократизации лишь лицемерным прикрытием каких-то совершенно других целей? А поскольку военная авантюра в Ираке готовилась с нарушением американских законов, то можно сказать, что и вся политика президента Буша по существу антидемократична. Хуже всего то, что она подрывает доверие, как к США, так и к самому понятию «демократия».
Статуя Эдмунда Бёрка в Вашингтоне с демонстрантами против Буша
Не случайно, оскандалившийся недавно президент Всемирного Банка Пол Вульфовиц был главным архитектором иракской авантюры. Он принадлежит к течению так называемых нео-консерваторов, влияние которых на внешнюю политику США началось еще в 1990-х, но при нынешнем президенте стало определяющим. Не случайно и то, что многие нео-консерваторы – это бывшие марксисты, привыкшие думать абстрактно и, как Троцкий со своей перманентной революцией, обязательно во всемирном масштабе. Для них насаждение демократии во всем мире часть стратегии глобализации рынка.
Ещё до авантюры в Ираке, их союзники во Всемирном Банке, нео-либералы, проводили опыты шоковой терапии в России. И что получилось? Приватизация обернулась «прихватизацией», а демократизация «демократурой». А разграбленная страна стала должником западных держав. Нео-либералы забыли одну коренную разницу между командной экономикой и диктатурой пролетариата, с одной стороны, и свободным рынком и демократией, с другой. Если командную экономику и диктатуру можно навязать в одночасье силой, указом и шантажом, то свободный рынок и демократию надо засевать и культивировать усилиями поколений.
Нео-консерваторы далеки от настоящих консерваторов, ибо они скорее софисты. Один видный американец назвал их якобинцами. Бёрк огорчился бы, узнав, что политика насильственной демократизации исходит от республиканца Буша, который на президентских выборах изображал себя «сострадающим консерватором». Делал ли он это по зову сердца или чтоб отобрать голоса от демократов, традиционных защитников бедноты, мы не знаем. Но известно, что колоссальные расходы на войну принесли не только смерть и увечья тысячам иракцев и американцев, но и урезали бюджет на социальные нужды миллионов.
Внешняя политика Буша идёт в разрез c фундаментальными принципами основателей США. Один из них, Джон Куинси Адамс, шестой президент США (и первый посол в России!), в 1821 году увещевал своих соотечественников: «Не дело Америки лезть за границу в поисках чудовища на заклание. Она всем желает свободы и независимости. Но она защитница и заступница только своих собственных свобод. Было бы безумно изменить фундаментальное направление её политики от свободы к насилию. Её слава не гегемония, а свобода. Пусть она держит в руках копьё и щит. Но на щите её вычеканено: Свобода, Независимость, Мир». Да и первый президент Джордж Вашингтон завещал будущим поколениям: «Главное правило, которому мы должны следовать в отношениях с иностранными державами, это расширять коммерческие связи, но при этом как можно меньше смешивать их с политическими отношениями». Не пора ли и Америке вернуться к мудрости своих предков?
Москва, 2008
Владислав Краснов
[1] Революция революции рознь: уроки Эдмунда Берка / Владислав Краснов . – 2008 // журнал Москва . – 2008 . – N 2 . – С. 167-180. Статья восходит к тексту в сборнике Владислав Краснов, «Пермский крест: Михаил Романов», 2011, Москва http://books.google.ru/books/about/Пермский_крест.html?id=SgyDtwAACAAJ&redir_esc= y.
[2] См. текст Солженицына на http://polit.ru/article/2007/03/05/fevral/
[3] Обсуждение статьи Солженицына на сайте http://www.rg.ru/stenogramma.html
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.