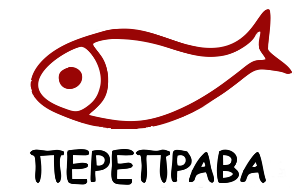На диване в моём (В.Аксючиц) кабинете: Оля Седакова, композитор Валера Котов, скульптор Саша Лазаревич. Начало восьмидесятых годов
7 февраля 1984
Дорогой Виктор!
Я прочла Вашу работу о «Преступлении».
Самой интересной в ней мне показалась мысль о метафизическом герое. Есть и другие интересные вещи. Однако в целом. Эта работа – по-моему – своему названию не соответствует. Именно метафизики-то зла я в ней не нахожу. Схема душевного движения Раскольникова, которую Вы предлагаете, по-моему, существенно нового в себе не содержит; больше того, она беднее многих других истолкований. Жалко, что Вы не можете полностью прочесть Васиолена – тогда бы мои суждение не выглядели для Вас голословными. Я думала: для кого Вы пишите? Адресат определяет многое. Так кому же нужно объяснять специфику реализма Достоевского? Для кого его «ненатурализм» ещё новость? Даже школьное литературоведение теперь это имеет в виду: посмотрите издание «Преступления» в «Школьной библиотеке» со вступительной статьей К.И. Тюнькина, по-моему, вполне серьёзной. Как просто всё у Вас выходит. Оторваться от истоков – вернуться к истокам. Разве Порфирий такой безусловно «положительный» персонаж? Разве Вы не чувствуете в нём отзвука породы Великого Инквизитора? Разве трагичность романа исчерпывается заблуждением главного героя? А то, что подгоняет его к преступлению, все эти страдания – не зло? С его отказом от «идеи» этого больше нет? (т.е. панели, ростовщиц и т.п.?) Почему же это зло – не зло, это (общественное, мирское, если хотите) преступление не преступление? Если для Вас это не вопрос, для Ф.М.Д. – точно, вопрос: он его ещё не раз повторит. И покажет трагедию несостоявшегося ответа кротостью («Идиот»). Совестно напоминать, но ФМД недаром любил «Книгу Иова». А такие интерпретации, как Ваша, – в духе советчиков Иова. Понимаете, о чём я говорю? Вот в «Иове» метафизика зла – в форме великого вопроса, и я не знаю, какая ещё форма для неё не непристойна, если человек не усыпил собственную совесть. И нет, уверяю Вас, таких «устоев», где бы это зло не действовало, нет такого века, нет такого народа, нет такой семьи, нет такой души в миру (что и любит показывать ФМД). В общем, не так всё просто, и если на великий вопрос есть ответ, то он – для нашего обыденного сознания – пострашнее самого вопроса. Потому что он только тогда имеет силу ответа, когда этот выбор лично совершается (т.е. выбор быть плачущим, гонимым и т.п. блаженства). Вам не страшно об этом думать в применении к себе? Мне так очень страшно.
Простите меня и не обижайтесь, пожалуйста! Я не хотела Вас обидеть. С любовью Ольга.
P.S. Не подумайте, что я вообще против философского, мировоззренческого анализа искусства. Наоборот, мне представляется, что здесь и могут быть найдены самые важные и интересные слова о художнике. Однако эта область очень сложна. И очень легко скатиться к школьным разборам. Я не знаю, насколько развернуть и прямо стоит излагать Вам мои мнения. Если коротко, то: не нужно делать заново то, что уже сделано, что не ново (тут, конечно, непременно возникает вопрос – для кого не ново? Допустим, для меня); к литературе нужно относиться осторожнее и внимательнее. Это довольно пустые советы, увы. Не знаю, как их сделать конкретнее. Может быть, продолжение Вашей работы о Достоевском будет интереснее, я не собираюсь отсоветовать Вам её продолжать. Между прочим, у П. Евдокимова (Paul Evdokimov) есть очень интересное исследование о Гоголе и Достоевском под названием «Феноменология зла» и «Сошествие во ад» (по-французски). Вообще об этом написано очень много интересного – и, в частности, у нас книга Ветловской (не помню инициалов, не помню названия, лет 5 тому назад). Постарайтесь эту Ветловскую прочесть, это доступно. О символике Достоевского (чего Вы коснулись в связи с углами комнат Раскольникова) – бездна. Напр., один из первых – Ин. Анненский. Конечно, всего не прочтёшь, но иметь-то в виду нужно. А то этак я захочу написать о Шекспире – возьму и напишу? Из уважения к читателю и к Шекспиру я этого делать не буду. О «Медном Всаднике» я прочла всё, что было доступно, – и не с положительным, а с отрицательным выводом: чего больше не писать или писать со ссылкой. Ведь мы не в одиночку работаем над каждым сочинением, это общее дело. Голосовкера, кстати, «Достоевский и Кант» Вы знаете?
10 апреля 1984 г.
Москва
Дорогая Оля, здравствуйте.
Письмо потрясло меня. Ваша критика настолько жёстка, что принять её – означает признать себя ничтожеством. Вместе с тем, я почувствовал глубокую ценность таких дружеских отношений, которые позволяют откровенно и нелицеприятно выказаться. Я пишу ответ не для оправдания, а как попытку найти взаимопонимание. У нас с Вами очень разные языки, и настал момент, когда нам трудно договориться, но во имя многого весьма ценного, мы должны сделать всё зависящее от нас, чтобы это произошло.
Для кого я пишу? А для кого Вы пишите стихи? У Вашей поэзии нет адресата, почему же он должен быть у меня? Я пишу потому, что не могу не писать, это мой тип жизни, и я не перестану делать этого, если даже все авторитеты убедят меня, что на выходе – пустое.
Если бы Вы ограничились тем, что Вам «не интересно», мне бы оставалось только горестно молчать, но Вы высказываете объективные суждения, которые для меня не бесспорны. Прежде всего, большая часть Вашей критики меня почти не касается, т.к. я вовсе не претендую на научную литературоведческую или критическую работу. У меня принципиальная позиция дилетанта, как литератора. Я профессиональный философ, но к литературе имею отношение только как читатель. Я и выражаю мнение дилетанта-читателя. Эта позиция проводится и в форме: отсутствие аппарата, примечаний, ссылок и т.п. Это же вовсе не обязывает меня предварительно прорабатывать литературу по вопросу. Что остаётся? Моя творческая совесть, в остальном я свободен. убеждён, что в многоцветьи культуры ценна и такая позиция. И я в этом не оригинален. Свободные эссе о литературе писали многие философы: Вл. Соловьев о поэзии Пушкина, А.К. Толстого, Фета, Бердяев о Достоевском, Щестов о Толстом и Достоевском. Я с благоговением отношусь к работе учёных-филологов, но не считаю, что их позиция и метод исключают всякие другие. В том и состоит «общее дело», что в нём каждый занимается своим индивидуальным. Так вправе ли Вы предъявлять мне те строгие требования, которые предъявляете себе? Ведь не думаете же Вы, что в том, что Вы делаете и как делаете, воплощается вся полнота? Поверьте, что у меня не менее строгие требования к своему творчеству, но настолько другого рода, что было бы абсурдным распространять и на Вас. Из всего этого, конечно, не следует, что сделанное мною обязательно должно заинтересовать Ваш строгий вкус. Но ведь и далее: из того, что Вам лично это не интересно, вовсе не значит, что этого не должно быть.
Я настолько убежден в оригинальности своей творческой установки и собственного взгляда на мир, что я преднамеренно использую неоригинальный материал, заимствую где угодно образы, выражения, целые обороты, если они помогают мне выразить свою интуицию. И для экономии времени, сил, и потому, что с радостью приемлю точное слово. От этого при поверхностном чтении может сложиться впечатление об идейном заимствовании. На самом деле заимствованное слово получает новое значение в совершенно оригинальном контексте. Что это не самообман, может доказать только непредвзятое и достаточно внимательное чтение. Вы могли бы увидеть, что выражения Ваши и разбираемых Вами авторов (в реферативном сборнике о Достоевском) использованы мною в других смыслах. Кстати, если мне это нужно для общей картины, то я не боюсь повторить уже сказанное. Что из того, что о символизме Достоевского написано «бездна»? Я не занимаюсь систематизацией и научным разбором его символики, но вышел на это со своим частным интересом. Но если бы Вы были внимательнее, Вы и здесь смогли бы увидеть другие штрихи (в связи не с углами комнат, – ни комнат, ни углов у меня нет, – а в связи с одной из материализаций душевного пространства метафизического героя в его жилище-комнате).
По существу же у меня следующие к Вам вопросы. Вы действительно считаете, что страдания, панели, ростовщицы и есть метафизическое зло? Тогда мне непонятно, что Вы понимаете под метафизикой?! Как бы не были чудовищны и трагичны эти формы зла, всё же это зло мирское (как Вы сами его именуете), но никак не метафизическое. Ведь не важность и значимость – критерий метафизичности. Я пытался понять, как Достоевский описывает зло само по себе (злого беса), пути и формы нарождения злой силы в мир, способы её индивидуации и воплощения, что собственно и есть метафизика зла, а не его мирская наличность. Может Вы сможете указать мне на другие формы зла в романе, которые более метафизичны, чем описанные в статье? Конечно же, Книга Иова – одно из наиболее метафизических произведений, но я ведь пишу о «Преступлении и наказании», в романе же собственная метафизика и своя физика зла. Конечно же, страдания, панели, ростовщичество – зло. Но это мирское зло в романе всё же не в центре внимания автора, а только контекст, в котором разворачивается душевная трагедия главного героя, которую, безусловно, я не свожу к заблуждениям. Вот когда ФМД этот вопрос повторит, я это сделаю вслед за ним (в статьях о других произведениях). Всё-таки пишу о «Преступлении и наказании», а не «Униженных и оскорбленных».
Я думаю, что Достоевский не претендовал на то, чтобы дать «великий ответ» на «великий вопрос». Но ему открылись потрясающие глубины этой проблемы. В романе он описывает важнейшие и могущественнейшие, но только некоторые аспекты великого вопроса. Что ж мне приписывать дух советчиков Иова, если у Достоевского Раскольников не случайно и реально возрождается (кстати, на пути, к которому призывал его Порфирий Петрович). Одна линия судьбы героя завершается духовным оздоровлением. Конечно же, он не становится праведником, и, разумеется, я, вслед за Достоевским, понимаю, что этим не отменяется принципиальная душевная трагедия героя (и физического – Раскольникова, и метафизического – Достоевского, России, нас с Вами). Но тема, которая является главной в романе – находит своё разрешение. Если Вас не устраивает эта «простота», то апеллируйте к Достоевскому.
К сожалению, Оля, Вы по существу меня не поняли, и я вынужден высказаться впрямую. Конечно же, для многих не новость «ненатурализм» Достоевского, но ведь природа этого ненатурализма представляется весьма разнообразно. Либо творчество Достоевского рассматривается как символизм разного рода, либо это мистический натурализм, либо некая смутная мистика или магия. Для многих Достоевский прежде всего психолог подполья или душевной патологии (это тоже «ненатурализм»), онтологической психологии. Всё это, как и умный натурализм, можно найти в творчестве великого писателя, и всё это отражает разные слои его художественной реальности. Я же понимаю Достоевского прежде всего как реалиста духа. С этой позиции все прочие представляются более частичными. На чём же покоится это моё утверждение? На убеждении, что за различными пластами бытия – как натурально-космическими или историческими, так и «ненатуралистическими», скрыта основа их и начало, а именно – некая реальность духа. Эта глубина реальности более реальна, нежели весь предметный мир. Причём реально реалистично, а не мистически, спиритуалистически, магически, оккультно либо иллюзорно-психологически. Духовная реальность трансцендентна и, одновременно, имманентна миру, поскольку и выводит за его пределы, и в то же время погружает в мир (не от мира сего, но в мире сем). Она существует по своим законам персоналистической диалектики духа, динамики, творчества, свободы, любви. Дух, прежде всего, не объект, а субъект (Н. Бердяев), он индивидуален, личностен. Дух сам по себе целостен, но он трагически раздвоен в мировом бытии. Человек – существо духовное, только личность глубиной своей укоренена в духе. Но человек, принимая трагичность духоносной миссии в миру, усугубляет этот трагизм сложносоставностью своей природы («и Бог, и червь») и титаническим своеволием. Человек движет реальностью, совершая духовные поступки, эмпирически это только объективируется, выходит на поверхность результат глубинных духовных превращений. Поэтому застигнуть движение реальности – значит погрузить взор в духовную, то есть метафизическую её глубину.
Достоевский провидчески ощутил мир в его духовной целостности и трагической ресщеплённости. Его взор погрузился на ту глубину, где видно движение духовных реальностей. Движение же реальности есть прежде всего динамика персонального духа – личности, и Достоевский показывает эту трагическую диалектику личного бытия, то есть падение, искажение, охлаждение личного духа, когда дух вырождается и распадается в духи. Поэтому Достоевский описывает не болезнь или ошибку сознания, а драму индивидуального духа. Человек-творец создаёт духовные реальности добра, истины, красоты в творчестве и самотворчестве, и он же в своевольной гордыне порождает духи зла, лжи безобразности. Борьба идей в романах Достоевского представлена не на уровне натурального их отражения, и не на уровне психологии, а в глубинах духа. Идеи – не продукт сознания и его формы, а духовные сущности, имеющие только одну из форм объективации в сознании. Это порождённые человеком духи, приобретающие реальное бытие и включающиеся в мировую драму с собственной волей (отсюда идея-человек).
Творческий взор Достоевского пронзителен и целостен. Таковым я его ощутил и таковым пытался описать, и это не школьная простота, но глубина, ясность и цельность, не схема, но реальность.
Итак, о чём же Достоевский писал роман? Конечно, прежде всего и в основном о трагедии Раскольникова. То зло, о котором Вы говорите, присутствует в произведении только как искушение нравственной совести героя. Рассмотрение этого зла – безусловно важный и актуальный вопрос, но для этого нужно было бы писать другой роман. Далее, Вы не убедили меня, что те проблемы, которые вскрывает трагедия Раскольникова – неметафизичны и, тем более, недостаточно важны, ибо о них специально и много говорится. Что может быть важнее вопросов – откуда в человеке зло, как оно зарождается в мир, в чём корень зла и каковы его формы? Во всяком случае, эти вопросы у меня поставлены. Я хотел бы, чтобы Вы уточнили: или Вы считаете сами вопросы не актуальными (по самому большому счёту), или же Вы не увидели ответы на эти вопросы в моей статье? При любой альтернативе мне было бы крайне важно узнать Ваше мнение: какие вопросы важнее (и метафизичнее), или какие ответы были бы адекватнее и полнее. Или же укажите авторов, у которых об этом можно прочесть. К сожалению, я не читал Васиолена, но я читал Ваше изложение его. Оно кратко, но, надеюсь, что там не упущены основные его идеи о «Преступлении и наказании», и что они переданы адекватно. Так вот, я вижу весьма отдалённое сходство (чисто внешнее) принципов подхода и интерпретации моей и Васиолена. У Голосовкера же остроумные фантазии, практически мало относящиеся к Достоевскому. Мой текст повторением этих или такого рода авторов может показаться только при чтении «по диагонали» или предвзятом подходе. Штрихов похожих масса, но у меня иная палитра и другой образ.
Ведь даже признанной Вами концепции метафизического героя (вбирающего судьбу автора, судьбу Раскольникова и эпохи, и даже нашей с Вами) достаточно, чтобы литературоведчески перевернуть всё достоевсковедение. (Во всяком случае, более радикально, чем знаменитые «полифония» и «скандал»). Мне хотелось бы от Вас услышать, у кого или где можно прочитать и о других идеях статьи. Например, о реальности духовной атмосферы, в которой мы существуем, и которая, с одной стороны, есть отражение духовного состояния людей, с другой же – «климат» её безусловно воздействует на душевное формирование. Конечно, я даю философский аналог идеологической атмосферы, но образ-то её я увидел у Достоевского. Далее, что чёрт у Достоевского реален – не новость (Голосовкер, например), но где описано, как чёрт у Достоевского обретает реальность? Далее, где я мог бы прочитать о нравственной преступности маниловщины и её «рецидиве»? Вообще, о пути и этапах душевной трагедии Раскольникова (не «схемы», конечно), так, как это изложено у меня? О корне преступления в отказе от свободы решения и ответственности? Об обзеличивающем механистическом рабстве идеологической маниакальности? Об идеологизме как форме духовного заболевания, и идеях – «трихинах» – его носителях в духовной атмосфере? О двух полюсах идеологизма: аффективном душевном подполье и голой рационализации, и о такой их связи? О нарастающей инфернальности духовного преступления? И т.д. и т.п. Я уже не говорю об «основных выводах» на стр. 32. Если всё это для Вас «не новость», то что же так с этим спорить и опровергать? Ну высказал общепринятые мнения или распространенные суждения, к которым можно было бы давно настолько привыкнуть, чтобы так яростно не оспаривать.
Оля, я сознаю, что ответ мой затянулся. Но иду на это во имя взаимопонимания, которое в данном случае мне дорого. Я бы никогда не стал распинаться так откровенно и оправдываться перед кем-то, хоть немного более далеким для меня, чем Вы. К тому же, убежден в колоссальной актуальности затронутых мною тем, и не столько злободневностью, сколько принципиальной жизненной важностью. Мне представляется, что при всей Вашей универсальности, Вы ограничены определённой культурной средой, вне которой происходят очень важные события. Мой голос – для Вас из другого мира, так же как во многом для меня Ваш. Но давайте же пытаться услышать друг друга и понять специфику, а не судить по законам своей метрополии.
«Прошу простить за резкость, которая в данном случае объясняется редакторским тоном отзыва».
С любовью
и уважением
Виктор Аксючиц
Дорогой Виктор!
Может быть, я употребила в письме неточные или слишком резкие выражения – может быть, Вы не привыкли воспринимать естественную и неизбежно возникающую полемическую реакцию – но в целом я очень огорчена, что Вы меня так поняли («значит признать собственное ничтожество»). Только из глубокого интереса к Вашей мысли я и могла так подойти к этой работе, ожидая от неё, как от предшествующих, нового для меня и ободряющего (особенно это было в «Реальность духа»). Если мне не удалось такого найти в этой статье – что с этим поделаешь. Мои возражения являются, конечно же, частными мнениями и могут показаться объективными положениями только случайно: это всего лишь попытка объяснить, чем же мне лично работа эта не пришлась по душе. Я не думаю Вас отговаривать в принципе от философских эссе на материале искусства, этот жанр более интересен мне и, наверное, нужен сейчас, чем академические литературоведческие штудии. Например, те эскизы, что Вы сообщали мне о М.М. Шварцмане и о моем же «Шиповнике» мне показались очень глубокими и открывающими действительно неведомые для меня смыслы. С Достоевским же, как и прежде в Цветаевой, – не так. Опять объяснять не хочется, но, с одной стороны – это анализ слишком близкий к тексту, то есть повторяющий то, что в нём вполне эксплицитно выражено, с другой – слишком далеко отходящий, толкующий о таких вещах, которые, быть может, естественнее изложить прямо, не прибегая к материалу художественных произведений. Опять же, эти два «слишком» – по моим меркам, хотя в первом я почти уверена, потому что при чтении не покидает ощущение, что это и так известно. Может, я ошиблась, слишком прямо ссылаясь на существующую литературу о Достоевском – на ваши «где это?» ответить мне трудно, иногда хочется сказать «много где», иногда – в собственном опыте, в воздухе, что ли, может быть, и в прочитанных прежде Ваших сочинениях. Действительно плодотворной мне кажется идея «метафизического героя» у ФМД. Видимо, это действительно разгадка его «характеров» – не только его, не в меньшей степени «характера» Гамлета, Эдипа, героя лирики Блока, Пушкина – то есть отчётливо приближающихся к своему пределу произведений, условно говоря, «о человеке» (есть ведь и тип искусства не «о человеке», например, натурфилософская лирика, «вещное искусство» вроде Сезанна и др. – конечно, без человека не обойтись, но не он там – главная тема. Понимаете?). В случае в ФМД поразительно появление «метафизического» героя в такое странное для него время, среди натуралистического романа, социологии и т.п. Б.м., потому, что ФМД, судя по наброскам замыслов, по их названиям, мыслил в категориях церковно-учительной, притчевой литературы, в «инока», «антихриста», «Лазаря» (как в «Преступлении») – и уже выбирал в русской современности плоть или платье для этих прообразов, а не «обобщал типические черты», как другие реалисты. Очень интересна связь ФМД с церковной книжностью и древнерусской литературой, вплоть до апокрифов. Может, здесь разгадка его «несовременности» своим современникам, того метода, который Вы называете реализмом духа.
Что ещё сказать? Мне хотелось бы слышать в Ваших работах немного другой, более мягкий тон, хотелось бы, чтобы Вы не говорили директивно, диктующе. Масштабность идей от этого ничуть не пострадает, только выиграет, по-моему. Но дело Ваше.
Принадлежностью к «разным мирам» объяснить расхождение слишком легко. Я же думаю, что мир вообще один. Идея несообщающихся миров и непереводимых языков – одна из любимых у современных позитивистов, между прочим. Надеюсь, они заблуждаются…
Вот и всё. Простите, если Вы найдёте, что и это обидно для Вас.
С уважением и любовью, Ольга.
Спор с Олей продолжился внутренне. Поэтому из неотправленного письма к Оле:
30.08.85
Поэт – тот, кто имеет свой голос. Но также и философ. Почему же Вы, пытаясь меня понять, хотите вписать меня во что-нибудь обязательно знакомое?
Мы были близки в начале, давайте же сохраним эту близость и тогда, когда каждый из нас вышел на свою дорогу.
Может ли быть судьёй поэту специалист? Почему же меня, философа, Вы ставите под этот суд? Специалист может дать совет и очень ценный, но не судить.
Почему же мы должны любить друг в друге только схожее себе? Каждый из нас ценен уникальностью, прежде всего, уникальностью, не переходящей в агрессивность. Любовь и дружба уникумов – это и есть соборность.
Для чего я Вас агитирую в близкие? Да потому, что я убежден в онтологической близости нашего с Вами призвания.
Я не хочу Вас терять, но это возможно только без взаимного причесывания под аля-себя.
Вас раздражает, что я говорю как власть имущий. А вдруг мне дана такая власть в своём деле, как дана она каждому призванному к творческому делу?
Время – наш судья. Может быть, я поумнею настолько, чтобы понять Ваши уничижительные суждения. А может быть и Вы когда-нибудь поймёте, что я говорю далеко не тривиальные вещи.
Отзвуки полемики с Олей нашёл в записках:
Без даты.
Философский подход.
Видеть сам предмет, проблему, а не суждения о нём других. Если согласны с идеей, то зачем указывать – кто о ней писал, кто говорил с метафизических мистических позиций. Подводятся итоги уже сказанному. Философский подход направлен на окончательные суждения и итог. Философия направлена к истине, направлена на итоговое суждение.
Филология направлена к новому, на выявление некоего нового подхода, поэтому соотносится с высказанным. Филологический анализ есть особая сфера бытия в области филологических реалий. Филологический подход – дитя нашего времени, благородный элитарный позитивизм.
Внеисторичность, духовная трансцендентность и историчность. Не от мира сего, но в мире сем. Парение вне истории, но и обязанность, и ответственность историческая.
Сполна Ольга ответила мне в своём стихотворении, образность и смыслы которого раскрываются до сего дня. Конечно, в споре поэта и философа поэт прав априори, поэтому самый великий философ Платон было столь поэтичен.
Ольга Седакова
НИ ТЁМНОЙ СТАРИНЫ ЗАВЕТНЫЕ ПРЕДАНЬЯ
В. Аксючицу
Есть странная привязанность к земле,
Нелюбящей; быть может, обречённой.
И ни родной язык, в его молочной мгле
Играющий купелью возмущённой,
Не столько дорог мне. Ни ветхие черты
Давно прошедшей нищеты,
Премудрости неразличённой.
И ни поля, где сеялась тоска
И где шумит несжатым хлебом
Свои сказания бесчисленней песка
Вина перед землёй и небом:
– О, не надейся, что тебя спасут:
Мы малодушны и убоги.
Один святой полюбит Божий суд
И хвалит казнь, к какой его везут,
И ветер на пустой дороге.
Ассоциативный ряд этого поэтического шедевра задан названием – строчкой из стихотворения Лермонтова и перекликается с ним.
Михаил Лермонтов
РОДИНА
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветного преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Проселочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Галя Дубовская ответила Оле своим стихотворением:
Один святой полюбит Божий суд
И хвалит казнь, к какой его везут,
И ветер на пустой дороге.
(Ольга Седакова)
Твой путь извилист,
Ветер твой горяч.
В тебя заглядывая,
Вижу – поле,
Во влажный летний день
Лиловой ширь дороги,
На горизонте леса тень,
Гул ветра,
Множество следов:
Ступни копыта,
И ветер вновь,
И стонет кровь,
И поле всё изрыто.
Вдыхает тёплая земля
Глотками небо,
И попадают облака
В межу,
Как рыбы в невод.
За горизонтом вой толпы,
Хрип воронья,
Телеги скрип
Да детский плач,
Да женский крик,
Да ветра вой,
И некому идти с тобой.
Но ты один – ты сам себе палач
И сам себе судья.
Стоишь, лишь ветра гул,
Лесов суровый караул.
Стоит лишь ветра вой,
И некому идти с тобой.
Кругом следы:
Ступни копыта, земля избита,
Душа изрыта,
Глотками пьёт
Тот горний свет, которому названья нет.
Ты не один,
Ведь Он с тобою.
Иди лиловою тропою,
Иди с изрытою душою
Туда, где шум и крик толпы,
Где брови мукой сведены,
Где детский крик,
Телеги скрип,
Где над тобой
Учинят суд,
Где ждёт тебя одна хула,
Да грязи пуд,
Да похвала,
Да…
И ты один,
Но твой Великий Господин
Тебе велит
Идти туда,
Где хрипы воронья,
Где детский плач,
Где ты себе – судья-палач.
Я очень радовался, когда Оля получила вместе с другим моим другом Юрой Кублановским премию Александра Солженицына. Радуюсь и ширящемуся признанию её как выдающегося поэта.
Виктор Аксючиц
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.