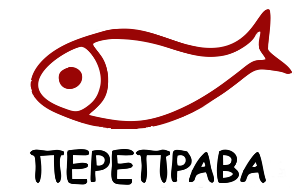Вот уже почти два года прошло со дня смерти писателя Александра Солженицына. Некогда непроходимые, запрещённые к печати произведения возвращаются к читателю, зрителю, слушателю, их проходят в школе в курсе литературы двадцатого века. Как воспринимают эти произведения подростки? Произошло ли переосмысление творчества этого писателя среди взрослых, и прежде всего – учителей-словесников? В настоящей статье я предлагаю по-новому взглянуть на рассказ «Матрёнин двор», который автор назвал совершенно иначе – «Не стоит село без праведника». Истинный его смысл до сих пор не понят, так как переход от школы советской к школе постсоветской неоправданно долго затянулся.
Необходимо осмыслить в контексте времени саму историю написания и публикации данного произведения.
Несомненно, рассказ «Матрёнин двор» нельзя не отнести к так называемой деревенской прозе, к лучшим образцам которой, помимо вышеназванного, относятся произведения Б. Можаева, В. Шукшина, В. Белова. Нет никакой загадки в появлении «военной прозы», после войны 1941-1945 гг. ответ лежит на поверхности, но каковы же социальные предпосылки появления прозы деревенской? Внимательное прочтение рассказа поможет найти ответ на этот вопрос.
Главные герои – рассказчик Игнатьич да немолодая крестьянка Матрёна – два встретившихся одиночества. Однако сама обособленность героев явно неслучайна: Матрёна одинока в силу обстоятельств – после смерти (или же эмиграции, как предполагает рассказчик) мужа, детей, после того, как выдала замуж приёмную дочь Киру. Для рассказчика же одиночество и тишина – желанны: «мечта о тихом уголке России», в шуршании мышей под обоями и тараканов за перегородкой «не было лжи», грубая плакатная красавица «молчала», да и о самой Матрёне говорится, что «почти не слышались её утренние хлопоты», «по бедности… не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать».
Одиночество и тишина – когда можно прислушаться к себе, к миру, к человеку – направление всей деревенской прозы, потому что возникла она как попытка «жить не по лжи», уйти от неумолчного радио, партсобраний, искусственно насаждённых шумных праздников. Старшее поколение ещё помнит известный своей абсурдностью лозунг советских лет: «Мы не можем ждать милостей от природы!». Каждому здравомыслящему человеку, живущему в России и вчера, и сегодня, понятно: без неизбежного ожидания «милостей от природы» невозможно ни сельское хозяйство, ни сама жизнь. Почти неизменные со времён Гесиода «труды и дни» привлекают деревенщиков ещё и смирением перед милостями и немилостями природы. Терпение и смирение, широко проповедуемые христианством, органично наложились на исконные черты русского характера.
Однако одиночество и тишина Игнатьича не абсолютны – на всём протяжении рассказа то и дело всплывает тема войны: «Ел я дважды в сутки, как на фронте», установка розетки воспринимается Матрёной как «разведка», да и после отъезда Матрёны на станцию рассказчик видит «застывшее побоище – сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селёдки, лука и раскромсанного сала». Эта «война» и придаёт повествованию определённое напряжение, становится одной из движущих сил. Однако в этой войне не каждый сам за себя – Матрёна отстаивает право рассказчика на тайну перед любопытством соседок, он (уже в день смерти) скрывает её самогоноварение. Тема войны в мирной, послевоенной деревне отнюдь не случайна – задержался на войне (первой мировой) Фаддей, жених Матрёны; не вернулся с войны (второй мировой) и муж Матрёны, Ефим; да и сам рассказчик не в тылу отсиживался – тоже воевал. Однако, это только внешняя канва событий, она не даст всей полноты картины: сюда надо бы включить и революцию, и гражданскую войну, и «без войны войну» против своего народа по всем направлениям – неумолимые волны репрессий; широкую проповедь абортов аж с 1920 года, «впереди планеты всей»; сталинский удар по хозяйству русской деревни; то затихающие, то усиливающиеся гонения на церковь… Рассказчик, возвращающийся «из пыльной горячей пустыни», застаёт время хрущёвских гонений на церковь.
Окончательное название рассказу, опубликованному в «Новом мире» № 1 за 1963 год, дал Твардовский, а также по требованию редакции год действия 1956-й заменили на 1953-й, то есть дохрущёвское время. Прототип героини – Матрёна Васильевна Захарова, жизнь и смерть её воспроизведены, как были. Истинное название деревни – Мильцево, Курловского района Владимирской области.
Из очерков литературной жизни «Бодался телёнок с дубом»2 в дополнение к вышеперечисленному можно добавить следующее: автор сам «облегчал» рассказ для возможной публикации («В те приезды я и привёз Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько «Крохоток» побезобиднее и рассказ «Не стоит село без праведника», облегчённый от самых непроходимых фраз» (с. 30)), редакторская работа с автором в то время ограничивалась тем, что сам автор назвал «неисправимым повреждением». («Соображения «пройдет – не пройдет» настолько помрачали мозги членам редакции «Нового мира» (тем более – всех других советских журнальных редакций), что мало у них оставалось доглядчивости, вкуса, энергии делать веские художественные замечания. Во всяком случае, со мною, кроме вот этой единственной беседы А.Т., никто в «Новом мире» никогда не провёл ни 5 минут собственно-редакторской, а не противоцензорской работы» (с. 48). «Верно найденное название книги, даже рассказа, - никак не случайно, оно есть – часть души и сути, оно сроднено, и сменить название – уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название «На Иртыше», если «Живой» Можаева (как глубоко! Как важно!) выворачивается в «Из жизни Фёдора Кузькина» - то это неисправимое повреждение» (с. 91)).
Из приведённых цитат видно, что, во-первых, в шестидесятые годы рассказ воспринимался как олитературенный вариант физиологического очерка, то есть более публицистика, чем литература. (О таком понимании «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матрёниного двора» рассказывают и сегодняшние пенсионеры, читавшие эти произведения в «самиздате» и официальных публикациях.) Во-вторых, можно заметить, что то же самое «физиологическое» понимание художественного произведения позволяло провести его через цензуру, но с существенными потерями смысловой составляющей через обезглавливание, обезвреживание названия как самого основного в художественной прозе.
Несколько иное восприятие рассказа в девяностые годы, время возвращённой литературы: «…в начале и в конце рассказа он придаёт своему «рассказческому» голосу особую медлительную значительность, роняет слова «торжественно и чудно», и, прежде чем увенчать всё пословицей «Не стоит село без праведника», отсылает нас к Некрасову и дальше – вплоть до евангельской притчи о Марфе и Марии. Когда же смыкаешь прямой смысл пословицы – не стоит село… - с фактическим итогом рассказа – смертью Матрёны, да ещё ставишь это в контекст общероссийской символики, заданной изначально, - тут и не хочешь, а воскликнешь: «Вся Россия – Матрёнин двор»!» (с. 18, А. Архангельский)1.
Обратите внимание на то, что критик мимоходом упоминает о некотором параллелизме Матрёны одной и Матрёны другой – что не ново для русской литературы: достаточно вспомнить Тургенева, «Хорь и Калиныч», да и сейчас эта традиция не утеряна – в сб. Ярослава Шипова «Райские хутора» рассказ «Венец творения» (М., «Светлый берег», 2007), - а в качестве архетипов предлагает вспомнить евангельских Марфу и Марию, хотя Четвероевангелие, надо думать, было основательно забыто советскими людьми. Впрочем, и эта параллель А. Архангельского недостаточно глубока: Марфа у него представляется символом неглубокого отношения к жизни, погони за чем-то внешним, а ведь именно она свидетельствует о Христе как о Сыне Божием (Ин, 11:27). Впрочем, здесь более существенным является то, что, по сравнению с шестидесятыми годами, не очень-то многое и изменилось: по-прежнему главным в художественном произведении понимается его публицистический прорыв. Библии во многих интеллигентных семьях просто не было: очень многие священные книги советская власть успела изъять и уничтожить, так что сопоставлять героинь солженицынского рассказа с Марфой и Марией было некому. Лучшими в то смутное время «возвращённой литературы» считались те сочинения, в которых ученик сумел вплести львиную долю биографии писателя в коротенькое рассуждение о его произведении – в качестве доказательства своих слов отошлю читателя к популярным сборникам вроде «100 лучших сочинений» девяностых годов издания.
Стоит, пожалуй, упомянуть и о том, что неслучайно в «твардовской» редакции время действия рассказа – сталинское, а в оригинале – хрущёвское, когда, после некоторого затишья, возобновились гонения на церковь: уничтожались не только сами церкви, но и всё, что связано с духовной жизнью народа – взрывались и засыпались наиболее почитаемые святые источники, милиция отлавливала паломников, а прихожане моложе пенсионного возраста должны были всеми правдами и неправдами прорываться к церкви сквозь всё те же милицейские кордоны. Сегодняшнему молодому учителю, вероятно, неизвестна традиция «постоять» на деревенских похоронах, когда тело умершего несут на кладбище. Странность этой традиции выражается в следующем: шесть здоровых мужчин, несущих гроб и не испытывающих при этом ни малейшей усталости, вдруг останавливаются на строго определённое время, после чего продолжают свой путь. Всем пришлым говорят: «так надо», «такая традиция». Оказалось, «традиция» имеет свои истоки в… отпевании! В местах непонятных остановок священник читал особые молитвы, о чём постсоветские крестьяне успели забыть, но хорошо запомнили «маршрут с остановками».
Солженицынский рассказ «Матрёнин двор» я впервые прочитала в юности, году в 1994-1995. Истинное название рассказа тогда было скрыто от читателей, а народная мудрость «не стоит село без праведника» в городах была как минимум малоупотребительна, тогда как о каких-то параллелях с Библией и вовсе нельзя было догадаться. Первое впечатление: хорошо написанный рассказ о какой-то чудаковатой женщине, даже «дурочке», в том смысле, что «работа дураков любит», и из этого всего особенно поразило описание похорон «по уставу», где живое чувство, живое безмерное рыдание осуждается.
Перечитала я его совсем недавно. Разница с первым восприятием – потрясающая. Помимо основного «школьного» понимания, что этот рассказ являет собой род физиологического очерка из жизни советской деревни, пришло и понимание авторского замысла, и того, что сейчас этот рассказ был бы написан совершенно иначе. Главную роль в ином понимании сыграло моё знакомство с православной культурой.
Основное внимание следует уделить названию рассказа. Кто такой праведник? Как мы понимаем это слово? Как понимал его сам автор?
Впервые понятия «праведник», «праведность» встречаются в Ветхом Завете, в самой первой книге – книге Бытия: «И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем?\...\Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.\...\Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти» (Быт, 18;23-33). После «торга» Авраама с Богом за город Содом следует рассказ о том, как Ангелы вывели из Содома Лота и двух дочерей его. Иллюзий не остаётся: в городе не нашлось и десяти праведников, так что тех немногих, кто ещё имеет веру и живёт праведно, проще вывести за руку, чем ради них пощадить город. В книге Бытия называется, таким образом, некая «критическая масса» праведности, позволяющая устоять – запомним это. В книге Иова, а также в книгах Притч, Экклезиаста следует искать истоки очень и очень многих русских пословиц и поговорок. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается» (Притч, 11;10).
Как известно, князь Владимир крестил Русь в девятом веке. Многие иронизируют по поводу этого события – это, дескать, было формально, не оказало большого влияния на наших предков, державшихся язычества до четырнадцатого-пятнадцатого, а местами и до девятнадцатого века. Однако, крещение дало письменность, общую для всех славянских народов, а письменные источники, в отличие от умозрительных реконструкций, свидетельствуют о том, что Владимирово крещение принесло свои плоды довольно быстро. Кто не помнит, что летописи датируются «от сотворения мира», а в «Повести временных лет» достаточно подробно пересказываются библейские сведения о расселении потомства Сима, Хама и Иафета по земле? А сборник законов времён Ярослава Мудрого(11 век) под названием «Русская правда»? В западных странах успешно применялся Corpus uris civilis в качестве основы законодательства, а на Руси почему-то обратились к ветхозаветной древности, к понятию праведности… Возможно, уже в то время и укоренилась пословица «Не стоит город без святого, селение без праведника». Как известно, в древности школьники учились читать по Псалтири, поэтому нет ничего удивительного в том, что и у истоков нашей светской литературы лежат переложения псалмов – знаменитое Державинское «Властителям и судиям», перифраз восемьдесят первого псалма. Традиция стихотворных переложений псалмов была жива в русской литературе на всём протяжении девятнадцатого века, да и к началу двадцатого века, хоть и обмелев, продолжалась. Понятия «праведника» и «праведности» полноправно жили в языке и были всем понятны – потому что произносились не только на воскресной проповеди, но и в разговорной речи, и в литературе – достаточно будет упомянуть рассказ «Повесить его!» в Senilia Тургенева, целую галерею Лесковских праведников.
После революции ситуация изменилась: советская власть почитала своим долгом искоренение веры и всех понятий, с нею связанных, в том числе и в литературе. Вышеупомянутую миниатюру Тургенева, конечно же, не проходили в школе, да и Лесков с его своеобразным сказовым стилем был искусственно заменён «зеркалом русской революции». Таким образом, к началу Второй мировой войны выросло первое советское поколение молодых людей, чьи родители либо молились тайно, боясь собственных детей, либо в молодости входили в «Союзы воинствующих безбожников». Александр Солженицын, 1918 года рождения, как раз и был из той молодёжи, которая уже не понимала смысла исконных русских слов, «праведник» стал просто хорошим человеком… Впрочем, книги помнили больше людей. Настольной книгой писателя был «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, как он сам неоднократно признавался в выступлениях. В соответствующих словарных статьях в качестве иллюстративного материала представлены, помимо заинтересовавшей писателя, и такие пословицы: «По правде тужим, а кривдой живём. Без правды жить легче, да помирать тяжело. Мать праведна ограда каменна. Для праведных у Бога места много». Однако уже в начале пятидесятых годов словарь Даля объявляется «устаревшим», ему на смену приходит «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ожегова. В соответствующих словарных статьях можно прочесть толкование слова «праведный» - «справедливый», но с пометкой устар., а в качестве иллюстративного материала – «От трудов праведных не построишь палат каменных (ирон.). Праведник – «Человек, ни в чём не погрешающий против правил нравственности, морали (ирон). Спать сном праведника (шутл).» Нельзя не заметить разницы. Вот от этого-то насаждаемого шутливо-ироничного (прямо-таки шутовского) отношения к праведникам и оттолкнулась деревенская проза в поисках настоящего, глубинного, серьёзного. Деревенская проза была попыткой продолжить традиции классической русской литературы в те годы, когда Россия, Русь – уже не Блоковская молодая женщина, невеста или жена, но – Коринская «Русь уходящая», хотя впервые образ Руси-бабушки появляется уже в очерке «Бабушка» у Ремизова в книге «Взвихрённая Русь»… Неслучаен этот образ у «деревенщиков»…
«Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно – она не скопила имущества к смерти» (с.249*1). Так, ближе к финалу рассказа, автор резюмирует своё понимание праведности, да и по самому рассказу рассыпано: «Всегда у неё была святая вода, а на этот год не стало» (с.223*1), «никогда не видал её молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась./…/Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь притеснить. Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они тёмные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрёна лампадку. Только грехов у неё было меньше, чем у её колченогой кошки» (с.224). «Порция во мне! – убеждённо кивала и сейчас Матрёна.- Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила – ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась (с.231*1). Помимо незлобия, самозабвенной помощи другим, рассказчик ценит в Матрёне отсутствие женского любопытства и молчаливое терпение страданий. Видно, что солженицынское понимание праведности явно граничит с традиционным пониманием, изложенным выше. Рассказ заканчивается на смерти той, которую рассказчик считает праведницей и добавляется несколько штрихов к её портрету, но ни слова не сказано о самой деревне, о судьбе её, поэтому высокий смысл последних слов теряется. Несомненно, если бы первоначальное название рассказа сочли «проходящим», Твардовскому ещё предстояло бы поработать с автором с позиций раскрытия темы.
Рассказчик лишь упоминает о том, что Матрёна удочерила Киру – никакого удивления такое поведение не вызывает, а почему? То, что бездетные (по каким-то причинам) люди начинали «понедельничать» (держать пост по понедельникам, кроме обычных среды и пятницы) и ездить по святым местам, чтобы всё-таки родить своего ребёнка или же, отчаявшись, взять на воспитание сироту либо ребёнка из многодетной, но не очень богатой семьи – было обычаем. Заметим, что никто из жителей деревни не считает удочерение Киры чем-то необычным, но только рассказчик уловил, что приняла Матрёна «кровиночку Фаддея» и что, рассказывая о своей несостоявшейся свадьбе с ним, называет Фаддея «головушка бедная».
Как в рассказе показаны второстепенные персонажи? Кто они?
Из первых упоминается рассказчиком женщина, продававшая молоко. О ней говорится, что «они с мужем воспитывали её престарелую мать». Затем следует рассказ о председателе колхоза, который «первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять так и пустовало за забором». Упоминается и жена председателя, которая всегда входила, не здороваясь, и говорила только официально, с восклицательными интонациями: «Товарищ Григорьева! Надо будет завтра помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить! И вилы свои бери!». Далее несколько строк посвящено «Маше, близкой подруге Матрёны», о которой сказано, что во время болезни Матрёны «приходила обихаживать козу да топить печь». Рассказ о смерти Матрёны у неё – «мешая со слезами», а после смерти Матрёны просила у рассказчика разрешения забрать из сундука некую «серую вязаночку», которую Матрёна «прочила Таньке моей, верно?». Рассказчик характеризует её как «полувековую подругу», «единственную, кто искренне любил Матрёну в этой деревне». Характеристика Фаддея двоякая – и глазами рассказчика – «перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне не один такой» и глазами жены - «всегда приходила она к Матрёне моей жаловаться, что муж её бьёт, и скаред муж, жилы из неё вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у неё был на слезе». Приёмная дочь Кира и её муж сперва лишь упоминаются в рассказе, а в доме появляются только в связи со смертью Матрёны. Кира «невменяемая ходила от гроба приёмной матери в одном доме к гробу брата в другом», а её муж «хотел повеситься, из петли вынули», после чего «пошёл сам, арестовался». Три сестры «обругали её дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть её больше не хотят – и ушли», а после смерти «захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей». После смерти Матрёны рассказчик Игнатьич уходит жить к одной из её золовок, причём «Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала…», «И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением». Далеко не всех второстепенных персонажей мы можем назвать по именам – пространство рассказа таково, что там нельзя уделить всем много места и дать полную характеристику. Безымянными остались, помимо вышеперечисленных, некий дезертир, а также кто-то из знакомых или родственников, хорошо знающий церковную службу и одна из женщин, сказавшая: «Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться».
Явную симпатию рассказчика вызывают лишь подруга Маша да приёмная дочь Кира с мужем – люди, искренне любившие Матрёну, остальных же рассказчик не жалует. Впрочем, случайные характеристики далеко не всегда очерчивают главное в человеке – что можно сказать о женщине, продававшей молоко? О старушке, «мурлыкавшей псалтирь»? О древней старухе «намного старше здесь всех старух»?
Кроме председателя колхоза с женой, Фаддея, трёх Матрёниных сестёр да одной безымянной золовки читатель не увидит, пожалуй, каких-то особенно отталкивающих людей изо всей череды второстепенных персонажей. Люди как люди. Живые лица, а не маски, как у раннего Чехова, например.
Да и сама-то Матрёна лишь отчасти «не от мира сего»: ведь и её «хлопоты» были отчасти о пенсии (чтобы зашить в пальто те самые похоронные двести рублей) отчасти о приёмной дочери, для которой ломали и везли горницу. Получается, что все эти хлопоты были – к смерти. У монахов и подвижников на первое место перед смертью выдвигаются пост, покаяние, последнее причастие – заботы о душе, у Матрёны же – заботы о физическом погребении (двести похоронных) и о приёмной дочери, в том числе и самогон «ко дню погрузки» злосчастной горницы.
Внимательный читатель увидит и то, что «твардовское» название «Матрёнин двор» далеко не точно, вернее было бы – «Матрёнин дом», ведь именно дом для крестьянина значит очень и очень многое, чего не мог не знать редактор «Нового мира». Дома рождались дети (в роддомах – только с шестидесятых годов, то есть не во время действия рассказа), из дома же провожали крестьянина в последний путь, смерть в больнице – сомнительная «привилегия» горожанина.
Вспоминала ли Матрёна своих шестерых детей, в этом доме родившихся и тут же умерших? Своего ли мужа, из дома ушедшего на войну и не вернувшегося? Фаддея ли молодого, который «стал на пороге» и пригрозил: «порубал бы обоих»?
Похороны Матрёны рассказчик описывает весьма иронически: «Перед киселём встали все и пели «вечную память» (так и объяснили мне, что поют её – перед киселём обязательно). Опять пили. Спели «Достойно есть». И опять, с тройным повтором: вечная память! Вечная память! Вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны и никто в эту вечную память не вкладывал чувства».
В таком контексте не знакомому с православной культурой читателю может показаться, что «Достойно есть» - это что-то о еде. Однако это – одна из богородичных молитв: «Достойно есть, яко воистину, блажити тя, Богородице…». Упоминается и отпевание в церкви, и псалтирь, и «Отче наш». Не зря, выходит, Матрёна заботилась лишь о физическом погребении – всё-таки тальновцы без христианского погребения её не оставили…
Не удивительно ли, что, помимо описанных в рассказе двух Матрён, была и третья – автору-рассказчику неведомая, но чья жизнь служит идеальной иллюстрацией к самой идее рассказа? Матрёна Дмитриевна Никонова(1885-1952), больше известная верующим как Матрона Московская, родилась в селе Себено Епифанского уезда Тульской губернии. Была четвёртым ребёнком в семье, причём, родилась совершенно слепой – вовсе не имела глаз. В народе таких называли «убогими», что означает не просто бедный или больной, но – «у Бога на особом счету». Она рано стала выделяться из сверстников – «играть» очень любила с иконами, другие же «игры» иначе как пророчествами назвать нельзя: «Мама, дай мне куриное перо, только большое». Ей дали перья, она выбрала самое большое, ободрала его и говорит матери: «Мама, видишь это пёрышко?» Мать говорит: «Да что ж его смотреть, ведь ты ж его, Матрюшенька, ободрала.» - «Вот так обдерут нашего царя-батюшку». Ещё одна характерная «игра»: девочкой Матрона ходила в широком платье и пробрасывала по одной кукле за пазуху, так что они падали вниз, на пол. Позже, на вопросы приходящих к ней, будет ли ещё война, она отвечала, что «без войны война идти будет».\Сравните с подобным же поведением, называемом также юродством, символические действия пророка Иезекииля – положив кирпич, устроить против него «осаду», выбираться из собственного дома через пролом в стене и т.д\. Предсказала Матрона и собственную «свадьбу», то есть тот день, когда на многих подводах стали приезжать к ней люди за исцелением и советом. Два брата Матроны не понимали её помощи людям, да и опасались репрессий, так как не только активно поддерживали советскую власть, но и сами раскулачивали односельчан, так что с 1925 года Матрона живёт в Москве, прячась по квартирам у разных людей, и обычно без прописки, так как многие боялись её прописывать.
Из фильма о жизни блаженной Матроны (снят телеканалом «Культура») запомнились некоторые характерные моменты: родное её село (поясним: селом называется большое поселение, имеющее свою церковь, куда из нескольких окрестных деревень и стекаются прихожане) так обнищало, что на праздничной службе в церкви стояло два-три человека! Икону «Взыскание погибших», заказанную когда-то Матроной для этого храма, решено было перенести в соседнюю деревню, где было больше прихожан. От самого села осталось несколько домов, да и в тех проживает, как говорится, «полторы бабуси», то есть ни детей, ни молодёжи. Вот как раз такая жизнь (житие) и является идеальной иллюстрацией к тому, что «не стоит село без праведника», тогда как в финале солженицынского рассказа о жителях деревни Тальново не говорится в сколько-нибудь отдалённой перспективе.
Дело ещё и в том, что само-то село Себено находилось неподалёку от Куликова поля – вот и параллель с другим солженицынским рассказом – «Захар-калита» - где тоже затрагивается тема нравственного оскудения народа, утраты исторической памяти, происходящего параллельно с разрушением церквей: «Это ещё в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывалми, себе дворы умостили, чтобы ходить не грязно… Ещё поперёд наших все иконостасные доски пустили землянки обкладывать да в печки».
В 1980 году, к очередной исторической дате, выпустили памятные открытки, календари, а «Союзмультфильм» предложил зрителям мультипликационный фильм «На поле куликовом» - довольно смелый по тем временам – где звучит живой голос летописца и возникает образ Сергия Радонежского, однако на фразе «сим победиши» Сергий указывает на войско (а не подаёт крест, как следует по смыслу), а на службе в церкви, которую посещает Дмитрий Донской, почему-то звучат пасхальные песнопения.
Я была на Куликовом поле (и в музее при нём) году в 1997-1998: никакой новой сувенирной продукции с 1980 года не выпустили, билеты стоят сущие копейки, однако посетителей нет. До сих пор помню состояние ужасного запустения – в деревнях нас встречают (чтобы указать дорогу) почти исключительно пьяницы, сами же говорящие, скорбные названия деревень не помню, но врезалось в память более точное некрасовское «Горелово, Неелово, Неурожайка тож».
Сейчас мы можем только предполагать – как написал бы автор свой рассказ, если бы сложилось у него более глубокое понимание праведности, но несомненно то, что советская власть в немалой степени покорёжила все гуманитарные науки, и что сегодня без знания православной культуры преподавателем гуманитарных дисциплин либо без отдельного введения такого предмета невозможно дать школьнику правильное понимание истории, литературы, МХК.
Многое прояснилось бы в рассказе и помимо образа праведности: и ирония по поводу названия «Торфопродукт», и первопричины советской привычки к переименованиям, и сами смыслы очень и очень многих подзабытых слов, потому что советская идеология была по сути своей не чем иным, как религией, и эта «религия» шла вразрез с тем, чем жили люди до революции.
Осмысление советского периода – истории его, культуры – необходимо нам всем, чтобы не прерывалась связь между родителями и детьми, между дедами и внуками, чтобы проблема отцов и детей осталась нам в назидание лишь в одноимённом произведении Тургенева, потому что поэзия и правда художественного произведения – нераздельны, и по мере их определяется место писателя в ряду литературы русской.
Мария Локтионова
*1Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии: Александр Солженицын, М, Молодая гвардия, 1991 год.
*2 Бодался телёнок с дубом: очерки литературной жизни. М, 1996
*3 О жизни и чудесах блаженной Матроны. Акафист. Даниловский благовестник, М, 2009
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.